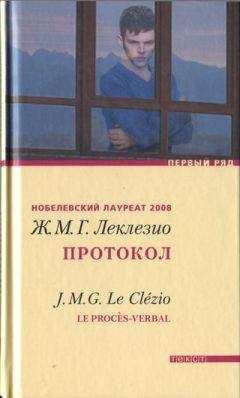Волки были единственным олицетворением движения в центре иссушенного пейзажа; движение, которое сверху, с борта самолета, наверняка походило бы на загадочную дрожь, на рождающуюся прямо под брюхом самолета рябь на поверхности моря. Море круглое, белесое, зубчатое и твердое, как валун, оно лежит в 6000 футов внизу, но, вглядевшись, можно заметить нечто отдельное от встающего солнца, маленький клубок материи со светящейся в самой сердцевине точкой. Если резко отвести взгляд от электрической лампочки, продолжаешь видеть крошечную, похожую на белого паука звездочку, она вибрирует, барахтается, но не движется, она живет на фоне черной картины мира и падает, извечная, пролетает мимо миллионов окон, миллионов гравюр, миллионов чеканок, миллиардов бороздок, только она, подобно звезде, переживет вечные самоубийства, ибо она уже мертва и похоронена на поверхности темной бронзы.
Адам отошел от клетки с волками к другому загону; на искусственной лужайке в центре сада было устроено несколько бассейнов, из которых могли напиться пеликаны с подрезанными крыльями. Розовые фламинго, утки и пингвины вели то же существование, которое Адам начал открывать для себя одним летним днем на пляже, в кафе, в покинутом доме, в поезде, автобусе и газете, перед клетками со львами, волками и кайрами.
Простота ослепляла, сводила с ума, потрясала. Он был внутри, он постигал и не постигал, не понимая, что делает, что будет делать, сбежал он из психушки или дезертировал из армии. Вот что случилось, вот что с ним произойдет: он видел мир, он смотрел на него, и мир исчез из поля его зрения; миллионы глаз, носов, ушей и языков миллионы раз видели, ощущали, осязали составляющие мир объекты, и мир уподобился зеркалу со множеством граней. Граням не было числа, и он стал памятью, а слепые зоны на стыках граней практически отсутствовали, из-за чего его сознание превратилось в сферу. В этом месте, по соседству с панорамным зрением, жить порой становилось невозможно. Случалось, теплым летним вечером, лежащий на сбитых простынях человек высыпал в стакан холодной воды целый флакон парсидола и начинал пить, пить, пить так жадно, словно на земле могли вот-вот пересохнуть все источники.
Ожидание этого момента длилось много столетий, и он, Адам Полло, пришел, явился и объявил себя собственником всего сущего; он был последним представителем своей расы, и в том не было сомнения, поскольку дни этой расы были сочтены. Теперь ему оставалось тихо и незаметно угасать, он задыхался, уступал напору и мощи не миллиардов миров, но одного-единственного мира; он соединил все времена и все пространства, зарос глазками, стал огромным, куда больше мушиной головы, и ждал в одиночестве, в глубине хрупкого тела, когда нечто странное размажет его о землю и снова вбросит в ряды живых, в кровавую кашу плоти и размолотых костей, разверзтого рта и ослепших глаз.
Ближе к вечеру, перед самым закрытием зоопарка, Адам вошел в кафетерий, сел за столик в тени и заказал бутылку кока-колы. Слева от него, на оливе, была устроена деревянная площадка, где на цепочке сидела черно-белая обезьянка-уистити. Шустрого зверька держали на потеху детишкам и для того, чтобы сэкономить на кормежке зверей; для полноты удовольствия дети покупали у приписанной к заведению беззубой старухи несколько бананов или пакетик засахаренного миндаля и угощали обезьянку.
Адам угнездился в кресле, закурил, глотнул колы из бутылки и стал ждать. Он ждал, сам не зная чего, витая между двумя слоями теплого воздуха, и смотрел на зверька. Мимо столика Адама, медленно загребая ногами, прошла пара. Их внимание было приковано к мохнатому зверьку.
«Какие они красивые, эти уистити», — сказал мужчина.
«Так-то оно так, красивые, но злые, — отозвалась женщина. — Помню, у бабушки была такая же; она кормила ее всякими вкусностями. И что же? Благодарности она уж точно не дождалась, мерзкая зверушка все время кусала ее за мочку, до крови».
«Может, так она проявляла привязанность к хозяйке», — предположил мужчина.
Адамом внезапно овладело нелепое желание внести ясность в обсуждаемую тему. Он повернулся к паре и пустился в объяснения:
«Они не красивые и не злые, они — уистити».
Мужчина рассмеялся, а женщина взглянула на Адама так, словно он был глупейшим из дураков и она всегда это знала, потом пожала плечами, и они ушли.
Солнце стояло совсем низко; посетители потихоньку расходились, освобождая пространство между клетками и столики кафе от вереницы ног, криков, смеха и ярких пятен одежды. С наступлением сумерек звери начали покидать свои искусственные берлоги и норы; они выходили на открытое пространство и потягивались, отовсюду доносились тявканье, визг, голоса попугаев и рычание голодных хищников. До закрытия оставалось несколько минут; Адам встал и подошел купить банан и орехи; взяв у него деньги, продавщица недовольно поинтересовалась:
«Собираетесь кормить обезьянку?»
Он покачал головой.
«Я? Нет — почему вы так решили?»
«Вы опоздали. Для кормежки уже поздно. После пяти кормить зверей запрещается, иначе они не проголодаются как следует и от этого заболеют».
Адам снова покачал головой.
«Это для меня, не для обезьяны».
«Тогда ладно. Это меняет дело».
«Ну да, для меня», — подтвердил Адам и принялся чистить банан.
«Вы же понимаете, зверям нельзя нарушать режим, это им вредно», — продолжила старуха.
Адам кивнул; он съел фрукт на глазах у продавщицы, но то и дело искоса поглядывал на уистити. Покончив с бананом, он открыл пакетик с орехами.
«Хотите?» — спросил он, и в глазах женщины впервые блеснуло любопытство.
«Спасибо, — ответила она, — с удовольствием».
Они доели миндаль, стоя у прилавка и глядя на обезьянку. Потом Адам скомкал пустой пакет и положил его в пепельницу. Солнце спустилось за деревья. Адам задал продавщице массу вопросов, его интересовало, как давно она работает в кафетерии зоопарка, замужем она или нет, сколько у нее детей, довольна ли она жизнью и любит ли ходить в кино. Он наклонялся к ней все ближе и смотрел на нее с растущей нежностью, как несколько часов назад смотрел на львиц, крокодилов и утконосов.
В конце концов она забеспокоилась. Когда Адам захотел узнать ее имя, она схватила тряпку и, тряся целлюлитными боками, принялась размашистыми движениями вытирать оцинкованный прилавок. Когда Адам попробовал взять ее за руку, она покраснела и пригрозила вызвать полицию. Где-то в глубине парка прозвенел звонок к закрытию. Адам решил уйти; вежливо попрощался со старухой, но она не обернулась и не ответила; он добавил, что еще до наступления зимы, прямо на днях, снова ее навестит.
Он вышел из кафе, пересек весь зоопарк в обратном направлении и направился к воротам. Мужчины в голубых комбинезонах мыли швабрами полы в клетках. Лиловая тень заполняла пустоты в пейзаже, наружу рвались дикие крики, душно пахло сырым мясом. Обе будки были уже закрыты. В воздухе у дороги — и даже у моря, где не было ни людей, ни животных, — витал едва ощутимый запах обезьян; этот запах способен незаметно пропитывать ваше тело, заставив усомниться в принадлежности к собственному, человеческому, виду.
G. Я знаю, что потом он каждый день, в один и тот же час, отправлялся ждать собаку на расположенный справа от пляжа пирс. На гальке среди отдыхающих ждать было удобней; но Адам хотел иметь свободу движений на жаре, вот и устраивался на открытом, обдуваемом свежим бризом пространстве, он садился на край пирса и спускал ноги вниз, к воде. Его взгляду открывалась вся перспектива пляжа, камни, кучки промасленных мятых бумажек и, само собой, купальщики, всегда одни и те же, всегда на привычных местах. Иногда ожидание длилось довольно долго: он сидел, привалившись к бетонному блоку, установленному здесь еще немецкими оккупантами в 1942 году, вытянув ноги на солнце и держа руку в кармане брюк, готовый в любой момент вытащить из пачки одну из двух полагавшихся на каждый час сигарет. Другой рукой он скреб подбородок, чесал голову или царапал ногтями камни пирса, выискивая пыль и песчинки. У него перед глазами был весь пляж, он видел, как приходят и уходят люди, слышал, как пересыпается у них под ногами галька. Но караулил он момент, когда из толпы незнакомых купальщиков выберется черный пес, направится к дороге, то и дело вынюхивая что-то в траве, будет весело скакать, а потом помчится по асфальту навстречу неведомому собачьему приключению.
И вот тогда, вырванный из оцепенения, как заарканенный мустанг, он продолжит преследование, не имея ни малейшего понятия о конечной цели и даже не надеясь ее узнать; он получал то странное, почти извращенное, удовольствие, которое заставляет человека машинально продолжать двигаться или подражать всему, что шевелится, ибо движение есть признак жизни, а значит, предположить можно все, что душе угодно. — Приятно длить движение, даже когда он бежит быстро, чавкая подушечками лап, как присосками, роняя на асфальт черные курчавые волоски, поставив уши, глядя прямо перед собой, и зваться — отныне и навек — зваться псом.