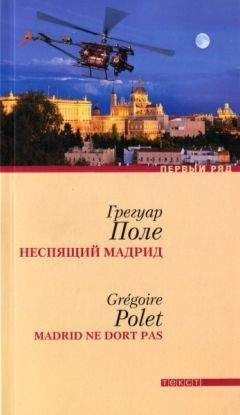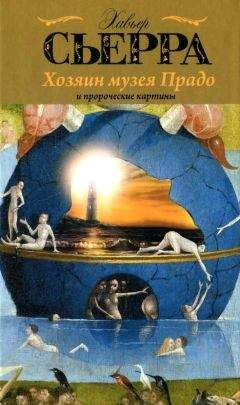– Ты ведь рано встаешь, Эрнесто? – спросил он. Я знал, что он спит до полудня, а то и позже во время гастрольных поездок.
– Да, но ты встаешь поздно. Спи, сколько спится, и хорошенько отдохни.
– Я хочу выйти вместе с тобой. На ферме я всегда встаю рано.
Утром – трава в саду еще была мокрая от росы – он один, опираясь на палку, поднялся по лестнице и прошел по коридору до моей комнаты.
– Хочешь пройтись? – спросил он.
– Хочу.
– Так идем, – сказал он. Палку он положил на мою кровать. – Палке конец, – сказал он. – Оставь ее себе.
Мы гуляли с полчаса, и я бережно поддерживал его под локоть, чтобы он не упал.
– Вот это сад, – сказал он. – Больше мадридского Ботанико.
– А дом чуть поменьше Эскуриала. Зато тут нет погребенных королей, можно пить вино, и даже петь разрешается.
Почти во всех испанских кафе и тавернах висит объявление: «Петь не разрешается».
– Будем петь, – сказал он. Мы еще погуляли, пока я не решил, что с него довольно. И тут он сказал: – Я привез тебе письмо от Тамамеса, там сказано, какое мне нужно лечение.
Я подумал, что, может быть, прописанные лекарства и витамины найдутся у нас, а нет, так я достану их в Малаге или съезжу за ними в Гибралтар.
– Вернемся в дом, я прочту письмо, и мы сразу приступим к лечению. Незачем терять время.
Я остался в прихожей, а он пошёл в свою комнату, стараясь не хромать, но держась одной рукой за стену. Через несколько минут он принес мне маленький конвертик, на котором стояло мое имя. Я вскрыл конвертик, вынул визитную карточку и прочел: «Уважаемый коллега. Сдаю на ваше попечение моего пациента Антонио Ордоньеса. Если вам придется его оперировать, то con mano duro (да не дрогнет у вас рука). Ваш Маноло Тамамес».
– Ну как, Эрнесто? Приступим к лечению?
– Я полагаю, что не мешало бы выпить по стаканчику кампаньяс, – сказал я.
– Ты думаешь, это полезно? – спросил Антонио.
– Рановато, конечно, в такой час. Но в качестве послабляющего можно.
– А купаться будем?
– Только после полудня, когда вода потеплеет.
– Может быть, холодная вода принесет пользу.
– А может быть, ты застудишь горло.
– Ничего, я не застужу. Пошли купаться.
– Мы пойдем, когда вода нагреется от солнца.
– Ну ладно. Давай погуляем. Расскажи мне, что нового. Хорошо тебе писалось это время?
– Иногда очень хорошо. Иногда похуже. День на день не приходится.
– И у меня так. Бывают дни, когда совсем не можешь писать. Но люди заплатили, чтобы поглядеть на тебя, вот и стараешься изо всех сил.
– В последнее время ты неплохо писал.
– Да. Но ты понимаешь, о чем я говорю. И у тебя бывают дни, когда нет этого самого.
– Да. Но я все-таки что-то выжимаю из себя. Заставляю работать мозги.
– И я так. Но как чудесно, когда пишешь по-настоящему. Лучше всего на свете.
Он очень любил называть свою работу писательством.
Мы обычно говорили о многом и разном: о место художника в мире, о технике мастерства и профессиональных секретах, о финансах, иногда о политике и экономике. Случалось нам говорить и о женщинах, даже часто случалось, о том, что мы должны быть примерными мужьями, и еще мы иногда говорили о чужих женщинах, не наших, и о своих повседневных житейских делах и заботах. Мы разговаривали все лето и всю осень, по пути с корриды на корриду, и за обеденным столом, и в любое время, когда Антонио отдыхал или поправлялся после раны. Мы придумали с ним веселую игру: оценивать людей с первого взгляда, как быков, привезенных для боя. Но это все было позже.
В тот первый день в «Консуле» мы просто болтали и шутили, радуясь тому, что рана Антонио заживает и силы его восстанавливаются. Он немного поплавал, но рана его еще не совсем закрылась, и я сделал ему перевязку. На второй день он уже не хромал и наступал на больную ногу осторожно, но твердо. С каждым днем он чувствовал себя лучше и крепче. Мы ходили, купались, упражнялись в стрельбе в оливковой роще за конюшней, хорошо тренировались, хорошо ели и пили и отлично проводили время. Потом он пересолил – вздумал в ненастный день поехать искупаться в море, от сильной волны шов немного разошелся, и в рану попал песок, но я видел, что она в отличном состоянии, и только промыл ее, наложил повязку и наклеил пластырь.
Антонио и Кармен прочли мои романы и рассказы, которые были переведены на испанский язык, и он хотел поговорить о них со мной. Когда он обнаружил, что почерк у меня такой же скверный, как у него самого, он стал усиленно упражняться в каллиграфии и заявил, что Билл Дэвис, у которого был замечательный почерк и огромная библиотека, мой «негр» и что все мои книги на самом деле написаны им.
– Эрнесто совсем не умеет писать, – говорил он. – Мэри приходится все переписывать на машинке и переделывать. Мэри – женщина образованная, культурная, вот она и помогает ему. А Билл его негр. Эрнесто рассказывает ему всякие истории, когда они едут в город или еще куда-нибудь, а потом негр записывает их. Теперь я понял всю вашу механику.
– Неплохая механика, – сказал я. – И машину водить мой негр тоже умеет.
– Я расскажу тебе очень страшные истории, просто чудовищные. Потом ты перескажешь их негру, а он уж обработает их. Мы подпишемся под ними оба, а деньги пойдут в общий фонд нашей фирмы.
– Как бы мой негр не надорвался, – сказал я. – А то еще ночью уснет за баранкой.
– Мы накачаем его черным кофе и витаминами, – сказал Антонио. – И, пожалуй, лучше сначала продавать нашу писанину под одним твоим именем, пока мое еще не прославилось в литературе. Как идут наши дела под твоим именем?
– Помаленьку.
– Верно, что нам могут только один раз присудить эту шведскую премию?
– Верно, – сказал я.
– Какая несправедливость, – сказал Антонио.
За то время, что Антонио оправлялся от раны, Луис Мигель выступал четыре раза, и по всем отчетам выходило, что он превзошел самого себя. Я был занят Антонио и своей работой и не следил за тем, каковы были рога у его быков. В Малаге тогда не оказалось ни одного из близких знакомых, у кого я мог бы это проверить. Я виделся с Мигелем и говорил с ним, когда после своего шумного успеха в Гренаде он приехал навестить Антонио в больнице, и мне очень хотелось увидеть его на арене. Я обещал ему, что мы приедем в Альхесирас, где он должен был выступать дважды.
Мы приехали в Альхесирас в ясный ветреный день по чудесной прибрежной дороге. Я беспокоился, что ветер затруднит работу матадоров, но арена в Альхесирасе сооружена с таким расчетом, чтобы защитить ее от порывистого восточного ветра, который здесь называют леванте. Этот ветер – бич прибрежной Андалузии, такой же, как мистраль для Прованса, но матадоры не тревожились, хотя флаг на верхушке цирка сильно трепало.
Все сказанное в отчетах о Луисе Мигеле подтвердилось. Он был горделив без высокомерия, спокоен, держался непринужденно и уверенно руководил боем. Приятно было видеть, как он всем распоряжается и с каким мастерством работает. Он вел себя на арене так же естественно и свободно, как у бассейна на Кубе, где мы с ним болтали, отдыхая после купания, в ту пору, когда он не выступал. Но в нем чувствовалась безраздельная и уважительная поглощенность своей работой, которая отличает всех великих художников.
Плащом он работал лучше, чем когда-либо на моей памяти, хотя его вероники не взволновали меня. Но я восхищался обильем и разнообразием его приемов. Все они были необычайно искусны и выполнены виртуозно.
Он был отличным бандерильеро и воткнул три пары бандерилий с не меньшим блеском, чем лучшие мастера этого дела. Он не фальшивил и не позировал. Он не бежал к быку через всю арену, а с самого начала привлекал его внимание и с геометрической точностью ставил его в нужное положение, а когда бык, нагнув голову, нацеливался рогом, поднимал руки и безошибочно втыкал палочки в надлежащее место. Смотреть, как он действует бандерильями, было истинное наслаждение.
Его работа с мулетой была очень интересна и эффектна. Он отлично проделал классические пассы и показал еще множество приемов всевозможных стилей. Убил он очень искусно, не подвергая себя чрезмерной опасности. Я понимал, что при желании он мог бы убить с подлинным мастерством. Я также понимал, почему долгие годы он считался матадором номер один в Испании и во всем мире, – так испанцы оценивают своих матадоров. И еще я понимал, каким опасным соперником он будет для Антонио, но после того, как я увидел работу Луиса Мигеля с обоими быками, я уже ничуть не сомневался в исходе состязанья. Эта уверенность особенно укрепилась во мне, когда Луис Мигель, подготовив быка к смертельному удару, отбросил мулету и шпагу и, безоружный, осторожно стал на колени в поле зрения быка перед самыми рогами.
Публика была в восторге, но когда Луис Мигель повторил свой трюк, я понял, как это делается. И еще кое-что другое я заметил. У быков Луиса Мигеля рога были подпилены, потом оструганы, чтобы придать им естественную форму, и я даже заметил глянец машинного масла, которым смазывают кончики рогов, чтобы скрыть произведенную манипуляцию и придать им видимость естественного блеска. На взгляд рога были отличные, если не уметь разбираться в них. Конечно, я мог и ошибиться, но так или иначе, Луис Мигель был в превосходной форме, он был великий матадор наивысшего класса, он обладал огромным опытом, огромным обаяньем на арене и вне ее, – словом, он был очень опасным соперником. Он показался мне разве что чуточку слишком усталым – а ведь сезон еще только начался и обещал быть очень напряженным. Но он был великолепен на арене и работал великолепно. Однако я знал, что в этой стадии единоборства у Антонио было одно несомненное преимущество. Он выходил в Мадриде против быков, к рогам которых никто не прикасался, и в Кордове я видел, как он убил быка с громадными рогами. А рога у быков Луиса Мигеля с самого начала показались мне подозрительными. Сведующие люди, сидевшие возле нас, высказывали сомнения по поводу рогов, но им было все равно: они пришли ради зрелища. Дельцам, причастным к бою быков, тоже было все равно. Большинство публики вообще не выражало своего мнения. Мне было не все равно, потому что, глядя на Луиса Мигеля, я понимал, что при таком чутье, при таком глубоком знании своего дела он мог бы справиться с любым быком и достигнуть совершенства истинно великих матадоров, – быть может, самого Хоселито. Но длительная практика боев с ослабленными быками мало-помалу сделает его непригодным для боя с настоящим быком. Я не думал, что Антонио ожидает верная победа. Кто знает, не отразится ли рана на его душевном состоянии? Но после того, что я видел – если только я не обманулся, – я считал, что шансы Антонио поднимаются.