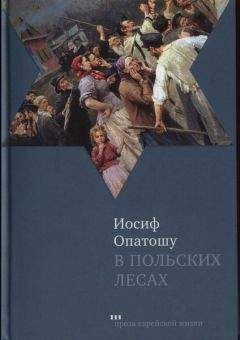— Добрый вечер.
Но не посмотрела на него; длинные ресницы закрывали ее глаза; повернувшись боком к нему, она, казалось, чего-то ждала или просто остановилась на минутку — передохнуть. Ковальчук молодцевато оперся на выступавший сук березы и, прищурясь, продолжал:
— А хорошо ли это — такое равнодушие выказывать старому знакомому?
Девушка пожала плечами и, не поднимая глаз, сердито буркнула:
— Какое уж там равнодушие!
— А как же! Разве так вы должны со мной здороваться?
— Когда со мной кто не здоровается, то и мне кланяться не для чего.
Ковальчук отошел от дерева, на которое опирался, и подступил к ней ближе. Глаза ее были попрежнему опущены, руки с серпом висели вдоль тела. Уже несколько часов она жала, день был знойный, и обильный пот крупными каплями поблескивал на ее загорелом лбу и щеках, почти таких же красных, как заткнутый за ухо полевой мак, выглядывавший из ее темных волос. Ковальчук глядел на нее не отрываясь. Казалось, он разглядывал капельки пота, густо орошавшие ее лицо.
— Ну, что ты, — снова заговорил Ковальчук, — все работаешь, спину гнешь?..
— Работаю, — ответила Петруся.
— Как вол в ярме?
— Как вол...
— У чужих людей?
— У чужих.
— И старую бабулю кормишь?
— Кормлю.
Он приблизился к ней еще на шаг.
— А чего ты за Степана Дзюрдзю не пошла? — спросил он.
— Не хотела, — ответила Петруся.
— А люди-то уговаривали?
— Уговаривали.
— И бабуля приказывала?
— Приказывала.
— Так чего же ты не пошла? Надо было идти за него: тогда бы в своей хате хозяйничала, покупной ситец носила, каждый день яичницу с салом ела.
Девушка порывисто переступила с ноги на ногу и буркнула:
— Степанову яичницу пускай свиньи едят...
— А теперь девки в насмешку про тебя песенки поют, будто ты уже вековуха.
— Пускай поют.
У Ковальчука глаза засверкали и слегка дрогнули руки.
— Что это ты — не то разговариваешь со мной, не то не разговариваешь... Как с собакой... Бросит словечко и опять замолчит, даже в глаза не взглянет... Что я тебе худого сделал?
На этот раз Петруся уронила серп на землю и, обхватив голову руками, запричитала:
— Ох, сделал ты, посмешище из меня сделал для людей, навек долю мою сгубил... Уже два воскресенья, как ты приехал, а про меня и не вспомнил, не пришел мне словечко доброе сказать, в ту сторону, где я была, и то не поглядел...
Она сдержала готовые брызнуть слезы, нагнулась, чтобы поднять серп, и, повернувшись, будто собираясь уходить, гневно крикнула, чуть не плача:
— Ты во мне не нуждаешься, так и я в тебе не нуждаюсь... Иди женись на дочке Лабуды... Богачка изо всего села, только глаза у нее не туда глядят: правый на стог, а левый — в другой бок... Иди, иди к дочке Лабуды... Уходи с богом от меня.
И глаза Петруси, не косые и гадкие, как у дочки Лабуды, глаза ее засветились, чаруя так, что сильней колдовства никакая ведьма не могла бы придумать. А больше ничего необыкновенного в ней не было. Таких свежих и статных, как она, можно много найти на свете. Но глаза ее были необыкновенны своей красноречивостью, они просто говорили, притягивая к себе словно золотым шнурком. Они раскрывали всю ее душу, когда уста молчали, не умея и не смея говорить. И теперь тоже ее серые глаза, устремленные на Ковальчука, говорили так много: в них были страстная жалоба и горестная мольба, врожденное веселье и такая щемящая тоска, что он схватил ее за руку и привлек к себе.
— Это меня ожидая, ты за Степана не пошла? — спросил он быстрым шепотом.
— А то кого же? — шепнула она.
— И тяжко тебе было жить?
Пальцем, на котором алел порез от серпа или ножа, она смахнула слезу со щеки и ответила:
— Тяжко.
— Это меня ожидая, ты гнула спину на посмешище людям? — спросил он еще.
— А то кого же?
— Побожись!
Петруся сложила пальцы для креста и подняла глаза к сверкающей лазури.
— Видит бог и пресвятая богородица, что я души в тебе не чаяла и ждала тебя, как ту птицу, что едва она прилетит, так и солнышко засветит и весна настанет...
Тут Ковальчук схватил ее в объятия и увлек в березовую рощу.
— Вот ты и дождалась, а я, как бог свят, возьму тебя в жены и хозяйкой введу к себе в хату. Я и правда стал тебя позабывать, но как увидел твой тяжкий труд и кровавый пот, так сердце у меня будто клещами сжало, а как взглянула ты на меня своими очами, что-то во мне разлилось, словно мед...
Среди зеленых берез, где щебетали птицы и пролетал ветерок, он крепко прижимал ее к груди, и рукой, словно созданной для наковальни и молота, утирал ей слезы и пот, а губы, из которых вырывались рыдания и смех, покрывал горячими поцелуями.
Долго после этого люди в Сухой Долине говорили, что Петруся и Ковальчука чем-то приворожила. Ну, слыхано ли это, чтобы парень, да еще уезжавший в чужие края, шесть лет помнил девушку, а уже особенно такой, которому самые богатые невесты вешались на шею; чтобы женился он на девке не очень молодой и вдобавок бедной и приблуде... Степана приворожила и этого приворожила, только того после отпустила, а этого себе забрала. Зелье, что ли, она знает такое? Или, может, еще что-нибудь похуже?..
Петруся и вправду знала множество всяких средств на все случаи жизни; сама она ни минуты не сомневалась в их силе, а потому советовала и другим. Испытали их на себе одновременно, но совсем не одинаково Петр Дзюрдзя и Якуб Шишка. Петр был одним из самых богатых хозяев в Сухой Долине. Лучшая ли земля им досталась в надел, или они были трудолюбивее и воздержаннее других, но только и деда его и отца, как и самого Петра, в деревне считали богатеями. Вскоре после раскрепощения крестьян Петр построил себе хату, вернее не хату, а небольшой домик. Был он снаружи беленый, о двух изрядных оконцах, с трубой и крылечком. Внутри с первого взгляда нельзя было заметить ничего особенного. Сени, большая горница и просторная клеть; в горнице огромная печь, в которой варили пищу и пекли хлеб, столы, лавки, ткацкий стан, всякая деревянная утварь и больше ничего — все как у людей. Но стоило только заглянуть в клеть, в конюшню, в хлев или амбар! Там-то уж было совсем не как у других. Какой бы ни случился недород, у Петра всегда хватало хлеба; из года в год он понемногу припасал зерно и излишками одних лет латал недостачу других. Четыре коровы, две лошади, в том числе одна ежегодно жеребившаяся кобылка, шесть овец, свиньи, куры, гнездившиеся на крыше голуби, в саду густо посаженные вишни вперемежку с дикими грушами, дававшими в изобилии плоды, которых доставало на всю зиму, — словом, всего было в избытке. В клети на полках и на полу стояли и лежали кадушки и мешки со всяким добром, одна стена была сплошь увешана мотками черных ниток, вдоль стен выстроились сундуки, доверху набитые мужской и женской одеждой, еще не раскроенными скатками сурового полотна и жестким домотканным сукном в красную и синюю полосу. Но не только необычный достаток отличал хату Петра: отличалась она и необычным покоем. Медлительный, рассудительный в речах, Петр был человеком флегматического характера; жена его, высокая, красивая женщина, славилась своей кротостью. С молодых лет ее донимал ревматизм и еще какой-то недуг, умерявший ее живость; она тоже медленно двигалась и менее других баб была охоча до ссор. Она часто охала, долго и пространно жаловалась на свои хворости, у кого только могла, спрашивала совета, а когда ее одолевали уж очень жестокие боли, поплакивала где-нибудь в уголке или в голос причитала на весь дом, но с мужем никогда не ссорилась. Да и где уже было ей, с больными ногами и искривленными пальцами на руках, ей, калеке, будто какая-нибудь барыня, нуждавшейся в том, чтобы за нее все делали, еще заводить ссоры! Великим счастьем почитала она уже и то, что муж не гнал ее из хаты, не попрекал за никчемность и даже иной раз жалел: постоит, бывало, над ней, покачает головой и поговорит по-людски. У нее хватало ума ценить свое счастье и мужнину волю уважать так, словно то была воля божья. Рассуждала она на этот счет просто и в минуты излияний говорила соседкам:
— Ради чего он женился на мне? Не ради приданого женился: за мной и не дали ничего, а ради того, чтобы хозяйка была в доме. А какая я хозяйка! К работе-то я рвусь, как лошадь к колодцу, что осилю, все сделаю, только мало что осилить могу. Как скрутит меня хворь, все из рук валится. А он мне никогда ничего, хоть бы одно слово сказал со злом! И худо ему, а молчит. Бывает, еще и спросит: «Может, тебе, Агата, чего-нибудь надобно? Может, тебя опять к знахарю свезти?» Добрая душа. Так я уж ни в чем не иду против его воли. Дай бог, чтоб и все шло по его воле...
Впрочем, противиться Петру было делом нелегким. Случались и у него вспышки гнева, редкие, но страшные. Можно сказать, что этого тихого, спокойного по натуре человека ярость обуревала с тем большим неистовством, чем дольше и медленнее она нарастала. Когда-то, в молодости, он был покорным сыном, лелеявшим своих дряхлых родителей, но, когда мать от старости начала чудесить и докучать ему поминутными ссорами со снохой, а однажды даже заперла от нее клеть, так что Петр, вернувшийся с поля голодным, остался без ужина, он с такой силой ударил ее, что старуха расхворалась и, пролежав несколько дней на печи, умерла. Может быть, и не оттого, что сын ударил ее, она умерла, уж и до этого старуха совсем обессилела, но Петра это терзало так, что он долго ходил, как потерянный. Жене и куму, которого Петр очень любил, он тогда сказал, что боится самого себя, как будто продал душу дьяволу. С тех пор Петр стал очень набожным. Чаще других он ездил в костел и исповедовался; идя за плугом, нередко твердил молитвы, а по большим праздникам жертвовал в костел огромные караваи хлеба и толстые скатки полотна. Должно быть, мысль о том, что, обидев мать, он отдал душу свою во власть дьяволу, наполняла его ужасом и жаждой очищения перед богом. Со временем это породило в нем склонность к мистицизму; постоянный тяжелый физический труд не позволял этой склонности развиться, однако порой она все же сказывалась в мечтательном выражении его серых глаз, глядевших на мир из-под густых бровей, и в том особенном любопытстве, которое вызывали в нем всякие чудеса, колдовство и даже рассказы о сверхъестественном. Склонность эта еще усилилась под влиянием события, происшедшего в младенческие годы его меньшого сына Ясюка. Мальчик явился на свет как раз в то время, когда заболела его мать, и годам к пяти высох и пожелтел так, что больше стал походить на восковую фигурку, чем на ребенка. Рот у него всегда был разинут, а кривые, выгнутые колесом ноги едва ковыляли, так что он поминутно падал и не мог бегать. Клеменс был здоровым ребенком и как ввысь, так и вширь рос точно на дрожжах; над Ясюком мать плакала, соседки жалостливо качали головами, а отец, по своему обыкновению, что-то тихо и медленно бормоча, в унынии вешал голову. Дошло до того, что Агата, которой опостылели и хныканье мальчика и постоянная возня с ним, как будто он все еще был грудным младенцем, однажды со злобой и тоской сказала соседкам: