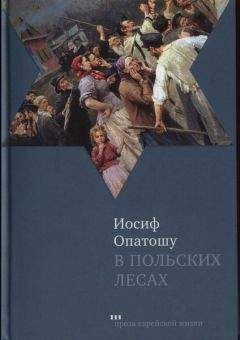— Уж лучше бы его прибрал господь...
Тогда Петра снова обуял гнев. За долгие годы после смерти матери он ни разу не сердился; теперь он опять впал в ярость и едва не избил Агату, но она с плачем припала к руке мужа, моля его сжалиться над ее недугами и горестями. Петр воздержался от побоев и только жестоко изругал Агату; соседок, бередивших своей болтовней ее материнское сердце, он с позором выгнал из хаты, а сам вскоре после этого сел с больным ребенком в телегу и поехал на богомолье в святые места, прослывшие своими чудесами. Если господь являл там чудеса другим, то не явит ли и ему? Для испрошения такой милости кто-то надоумил его купить восковую фигурку из тех, что продаются на паперти в некоторых костелах, и возложить ее на алтарь. Петр купил такую фигурку, заказал молебен о здравии ребенка и выслушал его, стоя на коленях; при этом сам он тоже громко и усердно молился и, тяжело вздыхая, бил себя кулаком в грудь. Когда мальчики у подножия алтаря зазвонили перед вознесением святых даров, Петр, вытянув обе руки, высунувшиеся из рукавов овчинного тулупа, высоко поднял своего ребенка, словно поручая его милосердию господню; запрокинув коричневое, густо заросшее лицо, он устремил мечтательный взор на колыхавшийся над головами людей, огоньками свечей и резным алтарем голубоватый дым, поднимавшийся к темному своду храма. С богомолья ребенок вернулся домой таким же, каким уехал: желтым, иссохшим, хилым, с кривыми ногами и разинутым ртом, однако вскоре, месяца два или три спустя, он заметно стал поправляться: потолстел, побелел, выпрямился, просто ожил. Правда, на дворе стояла весна и все на свете оживало: деревья, травы, цветы и дети. Правда и то, что Аксена, в ту пору поселившаяся в хате Петра, посоветовала жене его каждый день водить Ясюка на сухую песчаную отмель, тянувшуюся белой лентой на краю деревни.
— Пусть он, бедняжка, копается там в песочке, — говорила она, — а как солнышко жарче пригреет, вся хворь из него и выйдет. Такая уж в горячем песке святая сила, что от него дети здоровеют, — кончала Аксена и наказывала Петрусе, в то время еще подростку, водить Ясюка на песок и там стеречь его и забавлять.
Ясюк, правда, не стал ни таким сильным, ни таким красивым и смышленым, как Клеменс, который был немного старше его. Однако он выздоровел, побелел, уже не хныкал, как раньше, не падал на каждом шагу, начал больше говорить. В хате Петра часто толковали о нем, обсуждали причины его выздоровления. Благочестиво сложив руки на животе, иные бабы говорили:
— Помогло-таки приношение Петра на богомолье.
— Песок помог, что посоветовала Аксена, — твердили другие.
— И приношение на богомолье и песок, — решал спор Петр, — а все предопределил всемогущий господь бог, ибо ежели имеет песок святую силу, — глубокомысленно продолжал он, — то дана ему эта сила господом богом. Вот как.
— Есть на свете и бесовская сила, — заметила одна из баб.
— А как же, — убежденно подтвердил Петр и после долгих размышлений добавил: — Но в песке сила божья, вот он и пошел на благо, а будь в нем сила бесовская, он пошел бы во вред...
Петр снова задумался и, подняв указательный палец, окончил:
— Бесовская сила — она всегда человеку во вред, а божья — на благо. Вот как.
Оттого божью силу Петр Дзюрдзя старался привлечь на свою сторону чтением молитв, еженедельным посещением костела и всякими приношениями — хлебом, сыром и холстом, а бесовской боялся до смерти, хотя на себе, во всяком случае заметным образом, никогда ее не ощущал и питал к ней великую ненависть и отвращение. Если, например, при нем рассказывали о ведьме или колдунье, сыгравшей с кем-нибудь злую штуку, он гадливо сплевывал сквозь зубы и в сердцах кричал:
— Чтоб ей руки повыломало! Чтоб ее нелегкая взяла! Чтоб ей царства небесного не видеть!
Царство небесное Петр упоминал часто; это, должно быть, оно в неясных, расплывчатых очертаниях носилось над ним в вышине, когда в глазах его, глядевших из-под густых, нависших бровей, появлялось задумчивое, несколько мечтательное выражение.
Однако, грезя о царстве небесном, Петр не пренебрегал и земным. Он трудолюбиво и рачительно вел свое хозяйство и очень обрадовался, когда жители Сухой Долины выбрали его старостой. Тогда стало видно, что он далеко не чужд тщеславия и что оказанный ему почет приятно льстил его самолюбию. Раньше он немного сутулился, теперь, когда он вступил в должность старосты, спина у него выпрямилась и на лице появилась прежде ему несвойственная широкая и непринужденная улыбка, поступь его стала еще более величавой, и он с нескрываемым наслаждением, почти торжественно приколотил снаружи к стене своей хаты синюю табличку с надписью крупными белыми буквами: «Петр Дзюрдзя, староста». Общественными делами, возложенными на него соседями, он занимался ревностно и терпеливо. Когда его осаждали неприятности и хлопоты, связанные с должностью, он сокрушенно говорил:
— Иисус Христос больше терпел.
Или:
— Иисус Христос воздаст мне за это в царствии небесном.
И он делал свое, невзирая ни на просьбы, которыми ему докучали, ни на другие затруднения. Часто обуревала его гордость. Высоко подняв палец и широко осклабясь, он медленно, по своему обыкновению, произносил:
— Теперь, как говорится... Я тут первый и над всеми главный...
Иногда он наставлял старшего сына:
— Ты смотри, Клеменс, будь, как я, и всемогущий господь даст тебе власть на земле и царствие небесное. Не пей, не зарься на чужое, делай, что тебе полагается, и не поддавайся бесовской силе. Положись на божью волю, а бесовской силе не поддавайся, ибо, как говорится, сгинет твое хозяйство и погубишь душу свою. Вот как.
Важнейшее событие в жизни Петра — избрание деревенским старостой — произошло года через три после свадьбы Михала Ковальчука и Петруси, а вскоре после этого жителям Сухой Долины пришлось решать вопрос, имевший для них чрезвычайное значение. Деревенский амбар, в котором хранились запасы зерна, предназначенного для пособий в неурожайные годы, обветшал настолько, что грозил совсем развалиться. Становой несколько раз указывал на необходимость выстроить новый амбар, и жители Сухой Долины сами чувствовали, что это необходимо, однако к работе не приступали, откладывая ее с года на год. Понятно: страшились расходов, а хлопот у них и без того хватало. Но теперь настал конец всяким оттяжкам. Хочешь не хочешь, а амбар нужно строить: таково было строжайшее и безоговорочное приказание сверху. В хате старосты просто темно стало, столько пришло народу обсуждать это хлопотливое дело, к тому же требующее значительных расходов. Петр Дзюрдзя держался на сходке с присущей ему степенностью и рассудительностью, советовал, как и когда собрать деньги на постройку, где и какого купить лесу, кого и за какую цену позвать в землемеры, так как амбар следовало перенести в другое место. В обсуждении всяких подробностей и в вычислениях успешно помогал Петру двоюродный брат его Степан — едва ли не самая умная голова в деревне, когда он не был пьян и не впадал в бешенство. Перед другими у него было еще и то преимущество, что он быстро считал. Никто никогда его этому не учил, но у него были врожденные способности к счету и он выучился сам. На этот раз Степан был трезв и ни на кого не сердился, к тому же он хотел во что бы то ни стало на ближайших выборах добиться избрания деревенским судьей, а потому, сидя рядом с Петром, пространно и разумно толковал с людьми, быстро складывал и умножал какие-то цифры, словом, забыв о том, что точило и удручало его в личной жизни, весь отдался общественным делам. В эту минуту его преждевременно сморщившееся, обычно мрачное и гневное лицо как-то разгладилось и даже просветлело. Однако, несмотря на рассудительность и степенность обоих Дзюрдзей, в горнице то и дело поднимался такой гам, что никто ничего не мог разобрать. Все одновременно начинали говорить, локтями и плечами отталкивая друг друга от стола, за которым сидел староста, возражали против любого предложения и заводили ссоры из-за каждого гроша. Петр терпеливо выжидал, тем, кто хотел слушать, твердил свое, а когда соседи принимались бранить и клясть его самого, бормотал:
— Иисус Христос больше терпел!
— Скоты! Вот проклятые скоты! Чтоб вас холера! — орал разгорячившийся Степан, кулаком отталкивая от стола наиболее рьяных, и уже готов был впасть в ярость, как вдруг в грубый гул мужских голосов, словно разрезав его острием ножа, ворвался отчаянный визгливый женский вопль. Это была Агата; ломая руки, она выскочила из клети и, раскачиваясь из стороны в сторону, вопила истошным голосом, причитая:
— Иисусе мой! Иисусе! Ох, Иисусе мой, Иисусе милосердый!
Следом за ней из клети выскочила девка, сменившая Петрусю в хозяйстве; она рвала на себе волосы и, бегая по хате, визжала еще громче:
— Матерь божья, пречистая! Смилуйся, смилуйся, смилуйся ты над нами, разнесчастными!