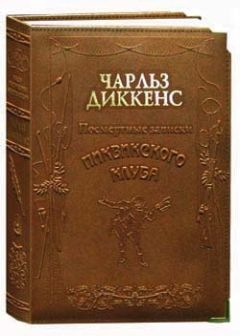— А дальше то, — сказал юнец, — что вы должны прийти к нему в шесть часов в нашу гостиницу, потому что он хочет вас видеть, — «Синий Боров», Леднхоллский рынок. Сказать ему, что вы придете?
— Рискните сообщить ему это, сэр, — ответил Сэм.
Получив такие полномочия, юный джентльмен удалился и разбудил при этом все эхо во дворе «Джорджа», изобразив несколько раз, с удивительной чистотою и точностью, свист погонщика скота голосом, отличавшимся своеобразной полнотой и звучностью.
Мистер Уэллер, получив отпуск у мистера Пиквика, который, находясь в возбужденном и тревожном состоянии, был отнюдь не прочь остаться один, отправился в путь задолго до назначенного часа и, имея в своем распоряжении много времени, добрел до Меншен-Хауса, где остановился и с философическим спокойствием стал созерцать многочисленных омнибусных кондукторов и кучеров, которые собираются около этого знаменитого и людного места к великому ужасу и смятению старых леди, населяющих эти края. Прослонявшись здесь около получаса, мистер Уэллер повернул и направил свои стопы к Леднхоллскому рынку, пробираясь боковыми улицами и переулками. Так как он слонялся, чтобы убить время, и разглядывал чуть ли не каждый предмет, попадавшийся ему на глаза, то ничего нет удивительного в том, что он остановился перед маленькой витриной торговца канцелярскими принадлежностями и картинками; но без дальнейших объяснений покажется странным, что едва взгляд его упал на кое-какие картинки, выставленные на продажу, как он вдруг встрепенулся, хлопнул себя очень сильно по правой ляжке и энергически воскликнул:
— Не будь здесь этого, я бы так ни о чем и не вспомнил, а потом было бы слишком поздно!
Картинка, с которой не спускал глаз Сэм Уэллер, произнося эти слова, была весьма красочным изображением двух человеческих сердец, скрепленных вместе стрелой и поджаривавшихся на ярком огне, в то время как чета людоедов в современных костюмах — джентльмен в синей куртке и белых брюках, а леди в темно-красной шубе, с зонтом того же цвета — приближались с голодным видом к жаркому по извилистой песчаной дорожке. Явно нескромный молодой джентльмен, одеянием которого служила только пара крыльев, был изображен в качестве надзирающего за стряпней; шпиль церкви на Ленгхем-плейс, Лондон, виднелся вдали, а все вместе было «валентинкой»[105], и таких «валентинок», как гласило объявление, в лавке имелся большой выбор, причем торговец обещал продавать их своим соотечественникам по пониженной цене — полтора шиллинга за штуку.
— Я бы забыл об этом! Конечно, я бы забыл об этом! — сказал Сэм; и с этими словами он немедленно вошел в лавку канцелярских принадлежностей и потребовал, чтобы ему дали лист лучшей писчей бумаги с золотым обрезом и твердо очиненное перо, с ручательством, что оно не будет брызгать. Быстро получив эти предметы, он пошел прямо к Леднхоллскому рынку энергическим ровным шагом, резко отличавшимся от его недавних медлительных шагов. Оглянувшись, он увидел вывеску, на которой талантливый живописец изобразил нечто отдаленно напоминающее небесно-голубого слона с горбатым носом вместо хобота. Правильно заключив, что это и есть «Синий Боров», он вошел и осведомился о своем родителе.
— Он здесь будет не раньше, чем через три четверти часа, — сказала молодая леди, которая ведала домашним хозяйством «Синего Борова».
— Отлично, моя дорогая, — ответил Сэм. — Будьте добры, мисс, дайте мне на девять пенсов тепловатого грогу и чернильницу.
Когда теплый грог и чернильница были доставлены в маленькую гостиную и молодая леди старательно выровняла угли, чтобы они не пылали, и унесла кочергу, дабы нельзя было их размешивать без ведома «Синего Борова» и без предварительного его разрешения, Сэм Уэллер уселся за перегородку у печки и вынул лист писчей бумаги с золотым обрезом и остро очиненное перо. Затем, посмотрев внимательно, нет ли на пере волоска, и вытерев стол, дабы не оказалось хлебных крошек под бумагой, Сэм засучил обшлага куртки, раздвинул локти и приготовился писать.
Для леди и джентльменов, которые не имеют привычки посвящать себя искусству каллиграфии, написать письмо — нелегкая задача; в таких случаях всегда признается необходимым для пишущего склонить голову к левому плечу так, чтобы глаза находились по возможности на одном уровне с бумагой, и, поглядывая сбоку на буквы, какие он сооружает, одновременно выводить языком соответствующие воображаемые письмена. Хотя такие движения бесспорно благоприятствуют в высокой степени оригинальному творчеству, однако они в некоторой мере замедляют процесс писания; и Сэм, сам того не ведая, добрых полтора часа выписывал слова мелким почерком, стирал мизинцем неудавшиеся буквы и вписывал новые, которые нужно было обводить по нескольку раз, чтобы разглядеть их сквозь старые кляксы, как вдруг его внимание было отвлечено распахнувшейся дверью и появлением родителя.
— Здорово, Сэмми! — сказал отец.
— Здорово, мой лазоревый! — отозвался сын, кладя перо. — Каков последний бюллетень о мачехе?
— Миссис Веллер очень хорошо провела ночь, но на редкость несговорчива и неприятна сегодня утром. Это клятвенно удостоверяет Т. Веллер — старший, эсквайр. Вот последний бюллетень, Сэмми, — ответил мистер Уэллер, разматывая шарф.
— И никакого улучшения? — осведомился Сэм.
— Все симптомы угрожающие, — отозвался мистер Уэллер, покачивая головой. — Ну, а ты что тут поделываешь? Туговато дается наука, Сэмми?
— Я уже кончил, — сказал Сэм с легким замешательством. — Я писал.
— Это я вижу, — отозвался мистер Уэллер. — Надеюсь, не молодой женщине, Сэмми?
— Что толку отрицать! — сказал Сэм. — Это валентинка.
— Что? — воскликнул мистер Уэллер, явно устрашенный этим словом.
— Валентинка, — повторил Сэм.
— Сэмивел, Сэмивел! — сказал мистер Уэллер укоризненным тоном. — Не думал я, что ты способен на это! После того, как у тебя перед глазами был пример твоего отца, отдавшегося дурным наклонностям, после всего, что я тебе говорил об этом деле, после того, как ты повидал свою собственную мачеху и побывал в ее обществе! А я-то полагал, что это такой нравственный урок, которого человек не забудет до своего смертного часа! Не думал, что ты можешь это сделать, Сэмми, не думал, что ты можешь это сделать!
Такие размышления оказались не под силу доброму старику. Он поднес ко рту стакан Сэма и выпил залпом.
— Что, полегчало? — спросил Сэм.
— Как будто, Сэмми, — отозвался мистер Уэллер. — Мучительное это будет испытание для меня в мои годы, но я довольно-таки жилист, а это единственное утешение, как заметил очень старый индюк, когда фермер сказал, как бы не пришлось его зарезать для Лондонского рынка.
— Какое испытание? — полюбопытствовал Сэм.
— Видеть тебя женатым, Сэмми, видеть тебя одураченной жертвой, воображающей по наивности, будто все очень хорошо, — объявил мистер Уэллер. — Это жестокое испытание для отцовских чувств, Сэмми, вот оно что.
— Вздор! — сказал Сэм. — Я не намерен жениться… Не расстраивайтесь. Вы, кажется, знаток в таких делах. Потребуйте свою трубку, и я вам прочту письмо. Вот!
Мы не можем сказать определенно, предвкушение ли трубки, или утешительное соображение, что фатальная склонность к женитьбе была фамильной чертой, успокоило чувства мистера Уэллера и утишило его скорбь. Мы скорее склонны предположить, что этот результат был достигнут благодаря обоим источникам утешения, ибо о втором он твердил тихим голосом, звоня тем временем в колокольчик, чтобы потребовать первый. Затем он освободился от верхней одежды и, закурив трубку и расположившись спиной к камину, чтобы пользоваться всем его теплом и в то же время прислоняться к каминной полке, повернулся к Сэму и с физиономией, значительно смягчившейся от благотворного действия табака, предложил ему «катать».
Сэм окунул перо в чернила, приготовляясь вносить поправки, и начал с весьма театральным видом:
— «Милое…»
— Стоп! — сказал мистер Уэллер, звоня в колокольчик. — Двойной стакан, как всегда, моя милая.
— Очень хорошо, сэр, — отвечала девушка, которая с удивительным проворством появилась, исчезла, вернулась и снова скрылась.
— Здесь как будто знают ваши привычки, — заметил Сэм.
— Да, — отозвался отец. — Я здесь бывал в свое время. Продолжай, Сэмми.
— «Милое создание…» — повторил Сэм.
— Уж не стихи ли это? — перебил отец.
— Нет, — ответил Сэм.
— Очень рад это слышать, — сказал мистер Уэллер. — Стихи ненатуральная вещь. Никто не говорит стихами, разве что приходский сторож, когда он является за святочным ящичком[106], или уорреновская вакса[107] да ролендовское масло[108], а не то какой-нибудь плаксивый парень. Никогда не опускайся до поэзии, мой мальчик! Начинай сначала, Сэмми!