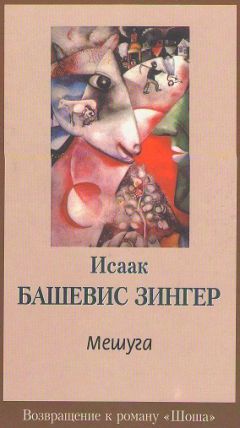— Надо же так умереть! В его-то годы! А ты! Сжечь бы тебя заживо!
— Лучше б я во сне умерла!
— И то верно.
Наоми не растерялась. По приезде она тут же отправилась к дворнику и рассказала ему все, что узнала сама. Говорила она громко, на ломаном польском языке. Дворник слушал молча, поедая ее своими маленькими полузакрытыми глазками. Наоми велела ему взять запасной ключ, и они, втроем, пошли через двор: Наоми впереди, дворник за ней, замыкала шествие Маня. Они поднялись по лестнице, дворник толкнул дверь, и она открылась. Трупа не было. Квартира была пуста.
— Сущий дьявол! — вырвалось у Наоми, и она, разразившись зловещим смехом, порылась в сумке, извлекла оттуда бумажку в пять злотых и протянула ее дворнику, многозначительно приставив палец к губам. Дворник взял деньги, почесал в затылке, что-то пробормотал и отправился восвояси. Тут взгляд Наоми упал на ящик с углем: она увидела что-то белое — при ближайшем рассмотрении это оказались трусы Абрама.
— Спрячь, — прошептала она Мане.
Маня взяла трусы, вышла из кухни, чтобы бросить их в корзину с грязным бельем, и по пути заглянула в комнату хозяина. Боже, ящики письменного стола были выдвинуты, пол завален бумагами, замшевый кошелек валялся посреди комнаты раскрытый и пустой.
— На помощь! Воры! — истошно закричала Маня.
Наоми отреагировала мгновенно. Она распахнула входную дверь и стала кричать что было сил. Теперь она испугалась за собственную шкуру — а вдруг подумают, что это дело рук их обеих?! А что, если эта грязная шлюха специально затащила ее сюда, чтобы замести следы?! Она бросилась на Маню с кулаками. Маня ударилась затылком об стену и выпустила из рук трусы. Трусы упали на пол. В дверях сгрудились полуодетые соседи. Дворник, который уже спустился вниз, услышал шум и стал подниматься вновь.
— Вызовите полицию! — кричала Наоми. — Немедленно! — И она направила на Маню указующий перст.
Дворник снял фуражку, достал из нее банкноту, которую дала ему Наоми, и швырнул ее ей в лицо. Кто-то из соседей — у него дома был телефон — бросился звонить в полицию. Маня не двигалась с места; в ее маленьких затравленных глазках скрывался ужас. Ей вдруг стало ясно: во всем, что произошло этой ночью, обвинят ее одну. Вот она, расплата за все ее прегрешения!
Наоми схватила ее за плечи и стала трясти:
— Что ты тут устроила?! Говори! Говори правду, а не то тебе не поздоровится!
— Ну же! Убей меня!
— Шлюха! Ворюга! Ты зачем меня сюда затащила?!
И тут Наоми пришла в голову неожиданная мысль.
Она сделала шаг к двери.
— Что стоите? — крикнула она. — Дайте пройти!
Соседи, с удивлением переводившие взгляд с одной на другую, расступились, и Наоми, расталкивая толпу животом, с решительным видом и горящими от праведного гнева глазами устремилась вниз по лестнице. Ее падчерица засвидетельствует, что эта воровка сама пришла за ней. У ворот на нее с лаем бросилась собака, Наоми поймала ее за лапу и ударила ногой. Пес, заскулив, убрался восвояси. «Вот ведь гадина, — подумала она с отвращением. — Хотела заманить меня в ловушку, пропади она пропадом!» Дрожки, на которых они приехали, по-прежнему стояли за воротами. Лошадь жевала овес из торбы. Идти всю дорогу пешком не хотелось, да и кучер, кстати говоря, сможет дать показания в ее пользу.
3
С бала Маша ушла в три часа утра. Ушла в порванном платье, в сбитых туфлях, с бонбоньеркой и с головной болью. Искать в столь позднее время дрожки не имело смысла, и она села в последний трамвай. Дверь ей открыла Марианна, служанка, и Маша сразу же прошла к себе в будуар. Они с Янеком давно уже не спали вместе; Маша теперь спала на раскладывающемся диване. Как была в одежде, она повалилась на диван, выключила лампу и, накрывшись одеялом, погрузилась в сон.
Рано утром ее разбудил телефонный звонок. Телефон стоял на туалетном столике, у ее изголовья. Полусонная, она подняла трубку и поднесла ее к уху.
— Пани Зажицая? — Из трубки раздался хриплый женский голос. — Прошу меня извинить. Это Гина Яновер. Может быть, вы меня помните?
— Да, помню.
— Ради Бога, простите. Произошло несчастье. Вчера вечером мы были на балу. Я вас там видела, выглядели вы замечательно. Когда мы вернулись, в квартире было полно полицейских и детективов. Видите ли, я вынуждена сдавать комнаты. К сожалению, мой муж найти работу не в состоянии. И у нас есть жильцы. Его зовут Бройде, а его жену — Лиля…
— Этот Бройде — коммунист, так ведь?
— В том-то и беда. Он обещал мне, что в моей квартире политикой заниматься не будет, но этим людям доверять нельзя. Полиция обнаружила у него в комнате кипу запрещенной литературы. Мой муж арестован — уж он-то точно не виноват, он к этому никакого отношения не имеет… — И Гина разрыдалась.
У Маши слипались глаза.
— А что вы от меня хотите? Чем я-то могу помочь?
Рыдания душили Гину.
— Дорогая пани, он этого не переживет. У него и без того силы на исходе. Прошу вас… умоляю всем, что для вас дорого, поговорите с вашим мужем, полковником. Пожалуйста, пожалуйста, пусть даже у вас возникнут сомнения… одно слово полковника спасет его… — И Гина вновь разрыдалась. Она так волновалась, что все время переходила с польского на идиш и обратно. Она заговорила о бумагах мужа, его работах по психологии, которые полиция захватила вместе с коммунистическими памфлетами Бройде.
— Мой муж еще спит, — прервала ее Маша. — Я с ним поговорю.
— О, я буду вам благодарна по гроб жизни. Да благословит вас Бог, в вас по-прежнему бьется еврейское сердце.
Маша повесила трубку и попробовала заснуть, но телефон задребезжал снова. На этот раз звонила Адаса. Говорила она так тихо, что Маше приходилось напрягать слух. Адаса сообщила ей, что у дяди Абрама случился ночью сердечный приступ, что его подобрали в каком-то дворе на Птасьей и рабочий из пекарни привез его на дрожках в мастерскую к Иде Прагер. Кроме того, произошла какая-то таинственная история с ограблением; арестована молодая женщина по имени Маня, когда-то она была служанкой в доме ее деда. Маша слушала и прижимала руку к виску: кровь стучала так сильно, что казалось, череп вот-вот расколется.
— Дорогая, — сумела она наконец перебить звонившую, — я, право же, не понимаю ни слова из того, что ты говоришь. Умираю хочу спать.
— А я всю ночь не сомкнула глаз, — сказала Адаса.
Маша обещала, что перезвонит, и, обессиленная, рухнула на диван. Каким образом оказался дядя Абрам на Птасьей? И при чем тут эта Маня? И с какой стати ее задержали? Все услышанное не укладывалось в голове. Она выдвинула ящик секретера и достала флакон с валерьянкой. Взглянула на себя в зеркало. Бледна, как смерть. Вместо вчерашней модной прически — спадающие на глаза патлы. Под глазами темные круги. «Господи, краше в гроб кладут», — подумала Маша, вспомнив любимое выражение матери. До нее донесся чей-то вздох и кашель. Вошел Янек — босой, в одних подштанниках, ребра торчат, как обручи на бочке, на шее тонкая цепочка с крестиком, ноги тощие, волосатые, темные глаза горят гневом.
— Что ты тут устроила в такую рань? — прорычал он. — Твоим любовникам, я смотрю, не терпится? Утра дождаться не могут?
— Ради Бога, Янек, перестань меня мучить. Нет у меня никаких любовников.
— Когда ты вчера заявилась домой, а? И кто, черт побери, посмел нарушить мой покой? Я — польский офицер!
— Это же звонила Адаса, дорогой. У моего дяди Абрама был сердечный приступ.
— Этому паразиту, черт его дери, уже давно пора окочуриться.
— Как ты можешь говорить такое? Господи, это ж мой дядя. И еще арестовали Герца Яновера. У его жены истерика.
— За коммунистические взгляды небось?
— Ты же прекрасно знаешь, Герц Яновер — никакой не коммунист. Его арестовали из-за жильцов, снимающих у них комнату. Из-за Бройде и его жены.
— Я-то тут при чем, черт возьми? На что они рассчитывают? Что я вступлюсь за этих жидовских большевиков?! Будь моя воля, я бы их давно всех перевешал.
— Не понимаю, чего ты так возмущаешься? Герц Яновер ни в чем не виноват.
— Все они — одна шайка. Эти твои проклятые евреи терзают Польшу не хуже термитов. И ведь не успокоятся, подонки, пока над Бельведером не будет развеваться красный флаг.
— Ты спятил.
— И ты — одна из них. Ходишь на их вонючие балы. Ты — чума в моем доме.
— В таком случае я уйду. Сегодня же.
— Нашла чем напугать. Скатертью дорожка. Проваливай!
— Животное!
Янек вышел из комнаты, хлопнув дверью. Маша задумалась. Янек, она знала, обязательно придет просить прощения, будет называть ее ласковыми именами: «Душенька… сердечко… голубушка… мамочка…» Потом уйдет, домой вернется поздно ночью, пьяный, будет хвастаться, что на него вешались офицерские жены. Она закрыла лицо руками. «Господи, как же я устала! Даже поспать не дали!» Она упала на диван, зарывшись лицом в подушку. «Нет у меня больше сил. Пусть будет что будет. Ничего не поделаешь».