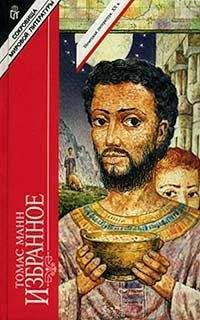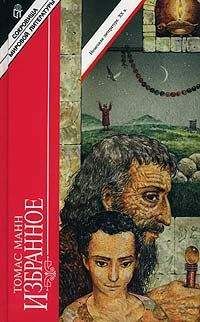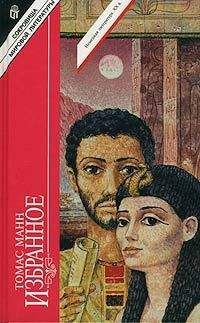Моя и перевязывая руку, он упорно, но как можно незаметнее следил за воздействием своих слов по лицу брата. После последнего вопроса он умолк.
— Почему ты так смотришь на меня все время? — спросил Петер. — Ты путаешь меня с кем-то из твоих пациентов. Мои научные взгляды ты понимаешь только наполовину, потому что ты слишком необразован. Не говори так много! Мне ты ничем не обязан. Терпеть не могу лести. Аристотель, Конфуций и Кант тебе безразличны. Любая женщина тебе милее. Если бы я имел на тебя какое-либо влияние, ты не был бы теперь директором лечебницы для идиотов.
— Но, Петер, ты же меня…
— Я работаю над десятью статьями одновременно. Почти все они буквоедские, как ты про себя называешь всякую филологическую работу. Ты смеешься над отвлеченными понятиями. Труд и долг для тебя отвлеченные понятия. Ты веришь только в людей, предпочтительно — в баб. Чего ты от меня хочешь?
— Ты несправедлив, Петер. Я сказал тебе, что не понимаю по-китайски ни слова. «Сан» значит «три», а «ву» — «пять», вот и все, что я знаю. Я должен смотреть тебе в лицо. Как мне иначе узнать, причиняю ли я боль твоему пальцу? Ты же сам не открыл бы рта. К счастью, твое лицо разговорчивее, чем твой рот.
— Тогда поторопись! У тебя самоуверенный взгляд. Оставь мою науку в покое! Не изображай интереса к ней. Оставайся со своими сумасшедшими! Я же тебя о них не спрашиваю. Ты говоришь слишком много, потому что ты всегда вертишься среди людей!
— Ладно, ладно. Сейчас кончу.
Георг чувствовал по руке, как хотелось Петеру встать, когда тот говорил эти резкости; так легко было вновь пробудить в нем чувство собственного достоинства. Своих возражений он и десятки лет назад не оставлял при себе. Не прошло и получаса с тех пор, как он сидел, скорчившись, на полу, слабый, на ладан дышащий, кучка костей, из которой слышался голос высеченного школьника. Теперь он защищался скупыми, злыми фразами и явно не прочь был воспользоваться как оружием длиной своего тела.
— Я хотел бы посмотреть твои книги там, наверху, если ты не против, — сказал Георг, покончив с повязкой. — Пойдешь со мной или подождешь меня? Тебе надо бы сегодня поберечь себя, ты потерял много крови. Приляг на часок! Потом я зайду за тобой.
— Что ты собираешься сделать за час?
— Посмотреть твою библиотеку. Привратник ведь наверху?
— На мою библиотеку тебе потребуется день. За час ты ничего не увидишь.
— Я хочу только бросить общий взгляд, по-настоящему мы осмотрим ее потом вместе.
— Останься здесь, не иди наверх! Я предостерегаю тебя.
— От чего?
— В квартире воняет.
— Чем же?
— Женщиной, чтобы не выразиться грубее.
— Ты преувеличиваешь.
— Ты бабник.
— Бабник? Нет!
— Юбочник! Тебе это приятнее? Голос у Петера сорвался.
— Я понимаю твою ненависть, Петер. Она заслуживает ее. Она заслуживает гораздо большего.
— Ты не знаешь ее!
— Я знаю, что ты вытерпел.
— Ты говоришь как слепой о цвете! У тебя галлюцинации. Ты избавляешь от них своих пациентов и берешь их себе. То, что творится у тебя в голове, напоминает калейдоскоп. Ты смешиваешь формы и цвета как тебе вздумается. А ведь у каждого цвета есть свое название! Помолчи лучше о вещах, которых ты не испытал сам!
— Я и помолчу. Я только хотел сказать тебе, что понимаю тебя, Петер, я пережил то же самое, я не тот, что прежде. Потому я и переменил тогда специальность. Женщины — это беда, это вериги духа человеческого. Кто относится к своему долгу серьезно, тот должен сбросить их, иначе он пропадет. Галлюцинации моих пациентов мне не нужны, потому что мои здоровые открытые глаза видели больше. За двенадцать лет я кое-чему научился. Тебе посчастливилось с самого начала знать все, за что мне приходилось платить горьким опытом.
Чтобы брат поверил ему, Георг говорил менее настойчиво, чем умел. Его рот искривила застарелая горечь. Недоверие Петера росло, росло и его любопытство, это было видно по напрягшимся уголкам его глаз.
— Ты очень тщательно одеваешься! — сказал он в ответ на всю резиньяцию.
— Мерзкая необходимость! Такова уж моя профессия. Необразованным больным это часто импонирует, когда с ними на короткой ноге господин, который кажется им аристократом. Иных меланхоликов складки моих штанов воодушевляют больше, чем мои слова. Если я не вылечу людей, они останутся в своем варварском состоянии. Чтобы открыть им путь к образованию, хотя бы и позднему, мне надо сделать их здоровыми.
— Вот как ты ценишь образование. С каких пор?
— С тех пор как знаю действительно образованного человека. Знаю, что он совершил и каждый день совершает. Знаю безопасность, в которой живет его дух.
— Ты имеешь в виду меня?
— Кого же еще?
— Твои успехи основаны на бессовестной лести. Теперь мне ясен шум, который вокруг тебя поднимают. Ты прожженный лжец. Первое слово, которое ты научился говорить, было ложью. Ради удовольствия лгать ты стал психиатром. Почему не актером? Постыдись своих больных! Для них их несчастье — горькая правда, они жалуются, не зная, как им быть. Я могу представить себе такого беднягу, страдающего галлюцинациями определенного цвета. "У меня перед глазами всегда зеленое", — жалуется он. Может быть, он плачет. Может быть, он уже месяцами мучится со своим нелепым зеленым цветом. Что делаешь ты? Я знаю, что ты делаешь. Ты льстишь ему, ты хватаешь его за его ахиллессовы пятки, — как им не быть у него, человек состоит из слабых мест, — ты называешь его "любезный друг" и "мой дорогой", он смягчается, начинает уважать сперва тебя, а потом и себя. Он может быть последним беднягой на свете — ты осыпаешь его знаками величайшего уважения. Когда он уже кажется себе содиректором твоей лечебницы, лишь по случайной несправедливости лишенным единоличной власти, ты выкладываешь ему правду. "Дорогой друг, — говоришь ты ему, — цвет, который вы видите, вовсе не зеленый, он… он… скажем, синий!" — Голос у Петера сорвался. — Разве ты этим вылечил его? Нет! Дома жена будет мучить его точно так же, как прежде, ока будет мучить его до смерти. "Когда люди больны и при смерти, они очень похожи на безумных", — говорит Ван Чун, светлая голова, он жил в первом веке нашей эры, с 27-го по 98-й год, в Китае позднего периода династии Хань, и знал о сне, безумии и смерти больше, чем вы с вашей якобы точной наукой. Вылечи своего больного от его жены! Пока она при нем, он безумен и при смерти — это, по Ван Чуну, два родственных состояния. Удали жену, если можешь! Этого ты не можешь сделать, потому что не схватил ее. А схвати ты ее, ты оставил бы ее себе, потому что ты юбочник. Засади всех жен в свою лечебницу, твори с ними что хочешь, прожигай жизнь, умри в сорок, расточив свои силы и отупев, но ты хотя бы вылечишь больных мужчин и будешь знать, за что тебе такой почет и слава!
Георг прекрасно заметил, когда срывался голос у Петера. Достаточно было его мыслям вернуться к находившейся наверху женщине. Он еще не говорил о ней, а голос его уже выдавал кричащую, пронзительную, неизлечимую ненависть. Он явно ждал от Георга, что тот удалит ее объект; эта миссия казалась ему такой трудной и опасной, что он заранее обругал брата за ее провал. Надо было заставить его выказать как можно больше скопившейся в нем ненависти. Если бы он, просто излагая события, как они запомнились ему, дошел до самого их начала! Георг умел во время таких ретроспективных рассказов играть роль ластика, стирающего все следы на болезненном листе памяти. Но Петер ни за что не стал бы рассказывать о себе. То, что он пережил, пустило корни в область его науки. Здесь было легче растревожить больное место.
— Я думаю, — сказал Георг, посыпая рану солью сочувствия, которое никак нельзя было не принять на свой счет, — что ты сильно переоцениваешь значение женщин. Ты относишься к ним слишком серьезно, ты считаешь их такими же людьми, как мы. Я вижу в женщинах лишь временно необходимое зло. Даже некоторым насекомым лучше, чем нам. Одна или несколько маток родят на свет целую колонию. Остальные особи недоразвиты. Можно ли жить в большей скученности, чем та, к какой привыкли термиты? Какую страшную сумму половых раздражений представляла бы собой такая колония, будь эти насекомые наделены полом. Они не наделены им, а связанными с ним инстинктами обладают в самой малой мере. Даже этого немногого они боятся. В полете роем, при котором тысячи особей гибнут как бы бессмысленно, я вижу освобождение от скопленной сексуальности стаи. Они жертвуют малой частью своей массы, чтобы избавить большую от любовных смут. Колония погибла бы от любви, если бы таковая была разрешена. Я не представляю себе картины великолепнее, чем оргия в термитнике. Снедаемые чудовищным воспоминанием, насекомые забывают, кто они — слепые ячейки фанатичного целого. Каждая особь хочет быть сама по себе. Это начинается с сотни, с тысячи, безумие распространяется, их безумие, массовое безумие, воины покидают входы, колония пылает несчастной любовью, они же не могут совокупиться, у них нет пола, шум, волнение, каких не бывало, приманивают полчища муравьев, через неохраняемые ворота врываются смертельные враги, кто уж из воинов думает об обороне, каждый хочет любви. Колония, которая жила бы, может быть, века, ту самую вечность, по которой мы так томимся, умирает, умирает от любви, от того самого влечения, благодаря которому продлеваем свою жизнь мы, человечество! Внезапное превращение самого осмысленного в самое бессмысленное. Это… сравнить это нельзя ни с чем… да, это все равно как если бы ты среди бела дня, при здоровых глазах и в здравом уме, сжег бы себя вместе со своими книгами. Никто тебе не угрожает, у тебя есть деньги, сколько тебе угодно и нужно, твои работы становятся с каждым днем шире и самобытнее, редкие старые книги сами идут тебе в руки, ты приобретаешь замечательные рукописи, ни одна женщина не переступает твоего порога, ты чувствуешь себя свободным и защищенным своей работой, своими книгами — и вдруг, без всякого повода, в этом благословенном и непреходящем состоянии, ты поджигаешь свои книги и преспокойно сгораешь сам вместе с ними. Это было бы событие, отдаленно сходное с тем смятением в колонии термитов, триумф бессмысленного, как и там, только не в столь великолепной мере. Преодолеем ли мы когда-нибудь пол, подобно термитам? Я верю в науку, все больше с каждым днем, и с каждым днем все меньше в незаменимость любви.