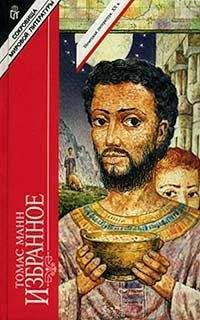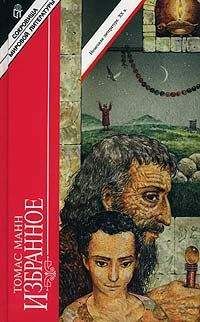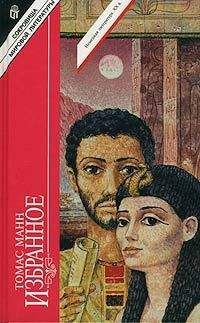Георг прекрасно заметил, когда срывался голос у Петера. Достаточно было его мыслям вернуться к находившейся наверху женщине. Он еще не говорил о ней, а голос его уже выдавал кричащую, пронзительную, неизлечимую ненависть. Он явно ждал от Георга, что тот удалит ее объект; эта миссия казалась ему такой трудной и опасной, что он заранее обругал брата за ее провал. Надо было заставить его выказать как можно больше скопившейся в нем ненависти. Если бы он, просто излагая события, как они запомнились ему, дошел до самого их начала! Георг умел во время таких ретроспективных рассказов играть роль ластика, стирающего все следы на болезненном листе памяти. Но Петер ни за что не стал бы рассказывать о себе. То, что он пережил, пустило корни в область его науки. Здесь было легче растревожить больное место.
— Я думаю, — сказал Георг, посыпая рану солью сочувствия, которое никак нельзя было не принять на свой счет, — что ты сильно переоцениваешь значение женщин. Ты относишься к ним слишком серьезно, ты считаешь их такими же людьми, как мы. Я вижу в женщинах лишь временно необходимое зло. Даже некоторым насекомым лучше, чем нам. Одна или несколько маток родят на свет целую колонию. Остальные особи недоразвиты. Можно ли жить в большей скученности, чем та, к какой привыкли термиты? Какую страшную сумму половых раздражений представляла бы собой такая колония, будь эти насекомые наделены полом. Они не наделены им, а связанными с ним инстинктами обладают в самой малой мере. Даже этого немногого они боятся. В полете роем, при котором тысячи особей гибнут как бы бессмысленно, я вижу освобождение от скопленной сексуальности стаи. Они жертвуют малой частью своей массы, чтобы избавить большую от любовных смут. Колония погибла бы от любви, если бы таковая была разрешена. Я не представляю себе картины великолепнее, чем оргия в термитнике. Снедаемые чудовищным воспоминанием, насекомые забывают, кто они — слепые ячейки фанатичного целого. Каждая особь хочет быть сама по себе. Это начинается с сотни, с тысячи, безумие распространяется, их безумие, массовое безумие, воины покидают входы, колония пылает несчастной любовью, они же не могут совокупиться, у них нет пола, шум, волнение, каких не бывало, приманивают полчища муравьев, через неохраняемые ворота врываются смертельные враги, кто уж из воинов думает об обороне, каждый хочет любви. Колония, которая жила бы, может быть, века, ту самую вечность, по которой мы так томимся, умирает, умирает от любви, от того самого влечения, благодаря которому продлеваем свою жизнь мы, человечество! Внезапное превращение самого осмысленного в самое бессмысленное. Это… сравнить это нельзя ни с чем… да, это все равно как если бы ты среди бела дня, при здоровых глазах и в здравом уме, сжег бы себя вместе со своими книгами. Никто тебе не угрожает, у тебя есть деньги, сколько тебе угодно и нужно, твои работы становятся с каждым днем шире и самобытнее, редкие старые книги сами идут тебе в руки, ты приобретаешь замечательные рукописи, ни одна женщина не переступает твоего порога, ты чувствуешь себя свободным и защищенным своей работой, своими книгами — и вдруг, без всякого повода, в этом благословенном и непреходящем состоянии, ты поджигаешь свои книги и преспокойно сгораешь сам вместе с ними. Это было бы событие, отдаленно сходное с тем смятением в колонии термитов, триумф бессмысленного, как и там, только не в столь великолепной мере. Преодолеем ли мы когда-нибудь пол, подобно термитам? Я верю в науку, все больше с каждым днем, и с каждым днем все меньше в незаменимость любви.
— Любви не существует! То, чего не существует, не может быть ни заменимо, ни незаменимо. С такой же уверенностью хотелось бы мне сказать: женщин не существует. До термитов нам нет дела. Кто там страдает от женщин? Hic mulier, hic salta![19] Будем говорить о людях! Если самки пауков, надругавшись над хилыми самцами, откусывают им головы, если кровь сосут только комары женского пола, то это не относится к нашей теме. Избиение трутней у пчел — это варварство. Если трутни не нужны, зачем их разводят, если они полезны, зачем убивают их? В пауке, самом жестоком и безобразном животном, я вижу воплощение женственности. Его сеть отливает на солнце ядовитой синевой!
— Но ты же сам говоришь только о животных.
— Потому что я слишком много знаю о людях. Мне не хочется начинать. О себе я молчу, я — частный случай, я знаю тысячи похуже, для каждого его случай — самый плохой. Действительно великие мыслители убеждены в малоценности женщин. Отыщи в беседах Конфуция, где ты найдешь тысячи суждений и мнений обо всех насущных и не только насущных предметах, хотя бы одну фразу, которая касалась бы женщин! Ты не найдешь ни одной! Мастер молчания обходит их молчанием. Даже траур по поводу их смерти кажется ему, приписывающему форме внутреннюю ценность, ненужным и неуместным. Его жена, на которой он женился в ранней молодости, женился согласно обычаю, а не по убеждению и тем более не по любви, умирает после долгих лет брака. Ее сын разражается над ее телом громкими воплями. Он плачет, он трясется, поскольку эта женщина случайно доводится ему матерью, он считает ее незаменимой. И тут Конфуций, отец, строго выговаривает ему за его боль. Voilа un homme![20] Его опыт позднее подтвердил это убеждение. В течение нескольких лет он служил министром у повелителя царства Лу. Страна расцвела при его правлении. Народ оправился, вздохнул, взбодрился, проникся доверием к тем, кто вел его. Соседние государства охватила зависть. Они испугались, что нарушится издревле желанное равновесие. Что они сделали, чтобы обезвредить Конфуция? Самый хитрый среди них, повелитель царства Цзоу, послал в подарок своему соседу в Лу, на службе у которого состоял Конфуций, восемьдесят отборных баб, танцовщиц и флейтисток. Они опутали молодого князя своими сетями. Они ослабили его, политика ему наскучила, совет мудрецов стал ему в тягость, общество баб нравилось ему больше. Из-за них дело Конфуция пошло прахом. Он взял посох и, бездомный, стал скитаться по свету, отчаиваясь при виде страданий народа и тщетно надеясь вновь обрести влияние: властители везде оказывались в руках баб. Он умер в горечи; но он оставался слишком благороден, чтобы хоть раз пожаловаться на свои страдания. Я почувствовал их в некоторых его кратчайших фразах. Я тоже не жалуюсь. Я только обобщаю и делаю необходимые выводы.
Современником Конфуция был Будда. Их разделяли огромные горы, как могли они узнать друг о друге? Один, может быть, не знал даже названия народа, к которому принадлежал другой. "Какая тому причина, ваше преподобие, — спросил Ананда, любимый ученик Будды, своего учителя, — почему женщины не заседают в собрании, не ведут дел и не зарабатывают на жизнь собственным трудом?"
"Вспыльчивы, Ананда, женщины; ревнивы, Ананда, женщины; завистливы, Ананда, женщины; глупы, Ананда, женщины. Вот, Ананда, причина, вот почему женщины не заседают в собрании, не ведут дел и не зарабатывают на жизнь собственным трудом".
Женщины молили принять их в орден, ученики ходатайствовали за них, Будда долго отказывался уступить им. Десятки лет спустя он поддался своей кротости, своей жалости к ним и, вопреки собственному благоразумию, основал женский монашеский орден. Из восьми строгих «правил», которые он установил для монахинь, первое гласит:
"Монахиня, даже если она состоит в ордене сто лет, обязана почтительно приветствовать каждого монаха, даже если он принят в орден лишь сегодня, она обязана встать перед ним, сложить руки, надлежаще почтить его. Это правило она должна уважать, соблюдать, считать священным, чтить и не нарушать в течение всей жизни".
Седьмое правило, священная верность которому ей внушается такими же словами, гласит: "Ни в коем случае монахиня не смеет оскорблять или хулить монаха".
Восьмое: "Отныне монахиням закрыта тропа устного обращения к мужчинам. Монахам же тропа устного обращения к монахиням не закрыта".
Несмотря на вал, который возвел для защиты от женщин Возвышенный своими восемью правилами, им овладела, когда это случилось, великая печаль, и он сказал Ананде:
"Если бы, Ананда, по учению и уложению, которые провозгласил Совершенный, женщинам не дозволялось покидать мир и обращаться к бездомности, этот священный порядок сохранялся бы долго; истинное учение сохранялось бы тысячу лет. Но поскольку, Ананда, женщина покинула мир и обратилась к бездомности, этот священный порядок, Ананда, будет сохраняться недолго; только пятьсот лет будет сохраняться истинное учение.
Если на прекрасное рисовое поле, Ананда, нападает болезнь, которую называют мучнистой росой, поле это сохраняется недолго; точно так же, если какое-либо учение и уложение дозволит женщинам покидать мир и обращаться к бездомности, этот священный порядок будет сохраняться недолго.