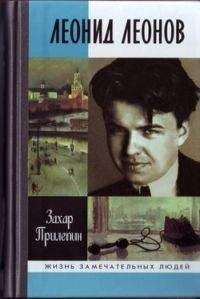— И кто же, по вашему мнению, должен этим благородным делом заняться… вот помощь-то Мите протянуть? — вкрадчиво усмехнулась Доломанова и сняла руку с Танина плеча.
— Да кому же еще, кроме вас одной? — простодушно подсказала Таня. — Ведь вы с ним по-прежнему любите друг друга… как, может быть, уж мало любят в наши дни! Стоит только ту начальную кудемскую встречу вспомнить…
Утверждение вырвалось у ней так искренне, что Доломанова в первое мгновенье лишь головой недоброжелательно покачала. Ей неприятно было напоминанье о Кудеме.
— Откуда же у вас такая преувеличенная осведомленность о чужих чувствах, дорогая моя? — неподдельно удивилась она. — Ах, верно, вы напечатанный фирсовский отрывок в журнале прочли… про любовь розовых малюток, как мы с ним тогда на кудемском мосту обнимались. Оно и вправду лихо там все обставлено, при чтении, как от горчицы, глаза пощипывает, только ведь это все врака одна на лирической патоке, чистая липа, как у нас блатные говорят. Во-первых, это в тихий летний дождик случилось, так что никакой ветреной погоды не было. А во-вторых… — Подобие молнии пересекло ее лицо. — Или это Митя вам по родству своими успехами хвастался?
— Что вы, никогда!.. напротив, ни словечком про это не обмолвился, только горестно так удивился вашему выбору в жизни и прибавил потом с сожалением, что вы несчастная.
— Милый какой! — почти благодарно улыбнулась Доломанова, но у ее собеседницы сердце защемило от ее злой, скользнувшей в углу рта улыбки. — К сожалению, вы заблуждаетесь, бедная вы моя… и да охранит вас господь — когда-нибудь на собственной шкуре убедиться, как глубоко и безжалостно заблуждались вы! А вообще-то лучше бы вам не путаться в эту тину, милочка, не бередить бы наше старое, подзаглохшее: у меня с этим мальчиком особый счет.
Таня как будто только и ждала этой вспышки.
— Вот-вот, вы оттого его и ненавидите, что слишком его любили… Да и теперь еще! иначе я не прибежала бы к вам… — горячо, даже просияв немножко, подхватила Таня. — Я еще в прошлый раз заметила, вы даже красивей, еще лучше становились, чем неистовей говорили о Мите… и Зина Васильевна это острей всех нас поняла, все губы в кровь тогда раскусала, видели вы? Только чувство ваше немножко загнанное… ну, жизнью! и вот огрызается на каждый неосторожный шорох поблизости. Это бывает… ничего, что я так откровенно говорю? А почему бы вам самой не пойти к нему навстречу?.. Думаете, у него не найдется сердца понять ваше состояние? Конечно, не мне разбираться в обычаях, что ли, вашей с ним нынешней среды… — неосторожно поскользнулась она на несколько опрометчивом предположении и тотчас с мольбой и испугом взглянула в совсем теперь бестрепетное доломановское лицо, — но отчего-то все кажется мне, что тут лишь недоразумение сердечное?.. Я охотно допускаю, что невольно он сам чем-нибудь и обидел вас: мне тоже намекали, что он бывает небрежен в отношениях даже с друзьями… но это не значит, что он не любит людей! Мне совсем на днях кто-то жарко доказывал, не Фирсов ли, что еще неизвестно — что именно выше, священнее — люди или отвлеченная идея о благе людском, потому что если их просто так, без идеи и плана любить, то ничего не выйдет, а сразу обессилеешь от глупой жалости и завязнешь в ней, именно как в тине. А ведь правда-то в том, чтоб сквозь нужды, даже кровь современников своих звезду ведущую впереди видеть… не верно разве? И потом самый даже беспощадный суд принимает во вниманье прошлое человека, закованного перед ним на подсудимой скамье… и если не ради самого Мити будьте снисходительны, простите его хотя бы во имя того дорогого — в прошлом, что осталось у вас обоих в безраздельном, на всю жизнь, владении. Господи, да коснись это меня…
Никем не прерываемая, она задохнулась без воздуха доказательств, запуталась, иссякла, и тут стало ясно, что вся эта беспредметная, смятеньем сердца внушенная мольба затянется еще надолго, если прямо не повернуть разговор к некоторым происшествиям, которые из какого-то горестного стыда так хотелось Доломановой утаить от всех.
— Вы уж, пожалуйста, успокойтесь, милочка… и за брата хлопотать вам вовсе не требуется и, возможно, даже не очень хочется, а просто вы забрели ко мне наугад, в поисках человеческого тепла, погреться, что, в свою очередь, показывает, до какой степени нет у вас никого из близких. Видно, показалось вам в прошлый раз, что я жаркая, и не ошиблись: раскаленная я. Так что все это у вас нервы одни, от одиноких переживаний. Меня тоже после Агеевой смерти целый месяц трепало… еле выправилась. И я потому еще, Танечка, не советовала вам давеча о брате убиваться, что у меня был случай узнать поближе этого человека. Повторяю, не горюйте о Векшине: коли суждено, он и без вас поднимется из праха… немножко обопрется о плечо неосмотрительного приятеля, на худой конец наступит на грудь или темя подвернувшегося простака. И я допускаю, что он действительно их любит… но не самих людей, а человечество, причем довольно безличное, потому что ужасно как отдаленное, приятно молчаливое, даже туманное за далью веков… и этим самым бесконечно для любви удобное! а ведь это вещи разные, может быть даже противоположные. Фирсов в своем каталоге любвей называет это любовью впрок, любовью без оправдательной расписки в получении. Нет, я не обвиняю Митю, сама не лучше его стала… а все вместе это означает, что не в ту дверку вы стучитесь, залетная пташка вы моя!
Теперь это уменьшительное обращение прозвучало так жестко, почти бесповоротно, что очевидна становилась бесполезность дальнейших упрашиваний. Тане оставался лишь крайний шаг.
— Вот вы и простите, возьмите да и простите ему разом все, что он причинил вам… — с силой прошептала она и во исполнение какой-то истерической потребности соскользнула было на пол, но все сорвалось из-за непредвиденной заминки.
Несомненно, она встала бы на колени, если б догадалась заблаговременно подвинуть мешавшую скамеечку внизу, — в следующее мгновенье Доломанова успела подхватить Таню и усадить на прежнее место, так что все получилось не только не трогательно, как хотелось бы, а даже суматошно, фальшиво, смешно.
— Ну, этого удовольствия я никак не смогу вам позволить, милочка, — сказала сурово Доломанова, — и старомодно, да и лишнее совсем. Верно, по болезни своей вы на такой поступок решились и, правду сказать, не меньшую бестактность только что совершили одну. Вот вы просите за Векпшна, а ведь не знаете толком, что именно я должна ему простить. Да вы и в прошлый раз, на именинах, не очень пытались выяснить, на что я тогда так зловеще намекала… а почему бы это? Может, боялись такую новость узнать, какая навсегда отвратила бы вас от брата? Вы не Митю, вы себя пожалели, милая, потому что хоть и ограниченный, в сравнении с моим, жизненный опыт ваш вполне представить способен возможности человеческого паденья. Вот только что я помянула имя Агея, которое даже тот дерзкий вор из моего чулана не смеет в этом доме произносить, вполне сознательно помянула… но опять из той же спасительной осторожности вы не проявили интереса, кто бы это мог быть. А это, видите ли, что… Это был личный мой, постоянный, домашний, так сказать, палач… извините, не подыщу поделикатней слова. И предал ему меня брат ваш Митя: Соврала я вам давеча… детство наше с ним в точности так и происходило, как в опубликованном фирсовском отрывке. На диво правдоподобно выписаны у него и Рогово тех лет, и весна томительная перед революцией… всё, кроме моих, пожалуй, скитаний по окрестностям. Как раз не любила я дальних прогулок… и не то что трусиха, просто щекотливая была я, царевной-недотрогой дома звали. Могут подумать, кто умом попроще, не затем ли царевна на все время с Агеем связалась, что уж больно понравилось ей с ним в тот раз, на апрельской травке. А это неверно, милочка! Фирсов ногти грызет, ума приложить не может, за каким чертом меня в экую дебрь понесло… к Агею на рога! Но вам я немножко приоткроюсь. А на самом деле это Митя, нелегально приехав в Рогово, свиданье мне в той чащобе лесной назначил… никак ему нельзя было на глаза посторонним попадаться. И уж как я тогда весточке его обрадовалась, еле часа назначенного дождалась… А Митя, несмотря что сам же и назначил, шалун, возьми да и не приди: на заседании задержался. Он в ту пору, как по-нынешнему говорится, большой общественник был. И тут, пока прохаживалась, зябла недотрога на том кудемском бережку, Агейка из кусточков и вышагнул. У него руки длиинные были, у кобла, что ноги у тебя… И чего он только в тот раз, бесстыдник, не делал со мной, дорогуша ты моя, и так и этак поступал со мною!.. рассказала бы на ушко, да вроде неловко девушке, хоть ты и на выданье. И смотри, какая я крепкая: никому в цельном свете не пожаловалась… так что никто и представленьица даже не имеет, как извивалась я тогда, каменное лицо Агейке грызла, землю талую ела, сама земли черней. Ах, да если бы даже за тыщу верст, в гостях у бога самого находился твой Митя, и тогда, пусть на одном крыле, пускай даже на сломанном, должен был на помощь ко мне подоспеть, вона как!.. понятно тебе теперь, Танюша, куда ты невинной детской ручкой без спросу забралась? — Доломанова помолчала, зажгла потухшую папироску, затянулась, стряхнула с колена осыпавшийся пепелок. — Не говоря уж о том, милая моя, что долго ли и простудиться было в одной рваной-то кофточке да еще на почти голой, апрельской… ух какой ледяной земле!