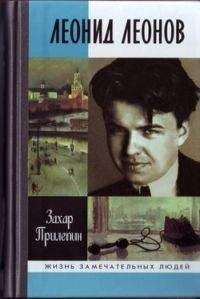Доломанова даже не моргнула в ответ, только плечи чуть расправились да кривая усмешка скользнула по губам. И вдруг что-то тайное, подлое, пятнистое, о чем всегда так страстно забыть хотелось Фирсову, все сильнее стало проступать в этой женщине: верно, несмываемые следы Агеевых прикосновений. И вот перед ним сидела иная, бывалая и грешная, с таким каторжным адом в душе Манька Вьюга, что и лучику давнего кудемского полдня не под силу стало пробиться сквозь непогоду ее опустошенных глаз.
— Что ж, кто в метель из дому выходит, завсегда рискует с дороги сбиться. Да уж и ты — писал бы лучше свои книжки, не встревал куда не следует! — с неожиданной хрипотцой и как бы сверху посоветовала она. — Ишь ты, Доньку пожалел… а меня, меня кто приголубит? Ты вот что, Федя, больше под ноги себе гляди да по сторонам не озирайся. И жена меньше плакать станет, и сам понравишься. А то вон бородищей зарос и черный, ровно в смоле тебя варили… Так не соберешься, значит, встряхнуться-то? Ко мне ведь и попозже можно, на ночь я подолгу читаю в постели, бессонница… А уж я бы тебя уважила, Федор Федорыч!
— Вряд ли когда-нибудь соберусь к вам, милая Маруся… — тоже сквозь зубы и поднимаясь процедил Фирсов.
Она наградила его долгим и пристальным взглядом.
— Отказываешься?.. то-то. Значит, крепко за тебя молилась мать твоя покойная. Помнишь ту грозу, — как обедня, когда на коленках-то предо мною ползал? — с сипловатым смешком и чуть понизив голос напомнила гостья. — Шибко тебе пошалить со мной хотелось, а я тебя отшила… помнишь? А ведь сам же болезнь мне придумал, от Агея, страшнее нет… Мите отместить за его жестокость хотел, чтоб видел и терзался… да разве поймут они наши с тобою тонкости! В тот раз давно уже синим огоньком горела я, и больно ты об меня обжегся бы, кабы я тебя для книжки нашей не поберегла! — зловеще погрозилась Вьюга, кидая под стул окурок. — Ладно, хватит, ухажер, погляделись напоследок… прощай! Проводи до ворот, что ли…
За ширмой упало и множественно раскатилось что-то досадное, с иголками и пуговицами, звонкое и рассыпчатое: жена заявляла о своем присутствии.
— Чего ж ты так гостью отпускаешь, Федор, у нас там, в шкафчике, водка есть… — произнес из-за ширмы чуть дрожащий голос жены.
Вьюга молча взялась за скобку, и вдруг Фирсов решился в самом деле проводить ее до подъезда — и не только затем, чтобы смягчить немножко выпад жены. Не произнося ни единого слова, они спустились по лестнице.
Погожий часок выдался на улице. Сверкала и брызгалась на солнце оттепель, воробьи и ребята галдели на застекленевшем мартовском снегу. После домашнего кухонного смрада приятно познабливало на свежем воздухе.
Фирсов поднял воротник пиджака.
— О ком задумался?.. Видать, новая подружка у сочинителя завелась? — заметив измазанный чернилами палец, ревниво спросила Вьюга. — Ну-ка, подразни, кто такая?
Натягивая тугую длинную перчатку, она медлила с уходом, но Фирсову не хотелось раскрывать перед такою свою новую привязанность… да и рановато было, потому что из мглы тревожного предчувствия лишь начинали сгущаться размытые пока профили, обстоятельства и речи.
— Так, поповна одна… — лишь бы отделаться, буркнул Фирсов.
Кажется, она поверила.
— Тоже ненадолго! Я всегда говорила, что ветреный вы народ, писатели, ненадежный…
Подобно Векшину, она круто повернулась и, не простясь, медленно, но все быстрее пошла прочь. С раздвоенным чувством сочинитель проводил ее глазами до угла и вдруг, как ей исчезнуть, шагнул вослед раз и другой со странным и тоскливым сожаленьем — то ли удостовериться в чем-то, то ли запомнить ноздрями навеки ее пропадающие духи… Но уже ничего больше не содержалось во встречном ветерке, кроме того молодящего и напрасного, чем пахнет всякая оттепель.
1927 — 1959
Свинья (нем )
Убийство (нем.)
Фактически, на деле (лат.)
Тем самым (лат.)
Бросок! (нем.)
Боишься? (нем.)
Нет… (нем.)
Дуга!.. (нем.)