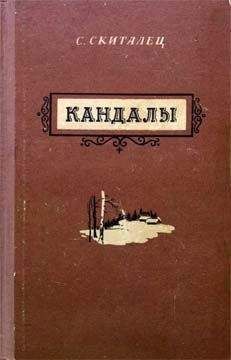— Эх, старость! — со вздохом сказал дед и по оглобле выбрался на берег. — Вы что же сидите, мошенники? Слезайте!
Ребята полезли по оглобле вслед за дедом. Чалку все глубже засасывало в трясину.
Тогда дед выпряг его и огляделся по сторонам: не смотрит ли кто? Но в праздник за деревней никого не было.
— Эх, старость! — опять повторил дед, взял Чалку одной рукой за хвост, а другой за гриву, уперся ногами в берег так, что лапти его ушли в мягкую землю, страшно зарычал на Чалку и — вытащил его на сухое место. Потом опять оглянулся по сторонам, стал на чалкино место в оглобли, весь напружинился, спина сгорбилась, голова ушла между широких плеч, а длинная борода почти коснулась земли. Тяжело дыша, дед покачался из стороны в сторону и вывез воз, после чего вытер рукавом лысину, впряг Чалку и вдруг, сердито погрозив кнутовищем, сурово сказал детям:
— Вы мотрите, мошенники, не болтайте! запорю!
И хотя они знали, что дед еще никогда никого не порол, а только ругался и в редких случаях замахивался, однако невольно струсили: их напугала его сила; должно быть, поэтому он и не бил никого никогда: боялся силы своей.
— Мы на Ситцево пойдем! — просительно сказал Лавр.
Дед молча сел на воз, дернул вожжами и, уже отъезжая, махнул на них рукой.
Перебравшись через ручей по срубленному дереву, они побежали лесной тропинкой к озеру. Оба были без шапок, босиком и уже на бегу снимали с себя рубашонки, чтобы скорее броситься в воду. Ситцевое сверкало на солнце между дубовых стволов. Когда подбежали к высокому зеленому берегу, по зеркальной глади озера, по самой середине его, плыли, удаляясь, две большие гордые птицы с серебряными перьями, с длинными шеями и черными носами.
— Лебеди! — прошептал Лавр, бросил на траву рубаху и хотел было с разбегу броситься в воду, но на обычном месте купанья кто-то бултыхался и плавал, поднимая ногами целый столб сверкающих на солнце брызг.
— Ребятишки! — весело закричал грудной женский голос, — хотите, ракушку достану?
— Это Грунька! — тихо сказал Лавр.
Девушка исчезла под водой и долго там оставалась, только круги по воде ходили.
Вдруг она выбросилась по грудь над водой и со смехом бросила им большую блестящую серебристую раковину.
Лавр наклонился поднять подарок, но Вукол словно остолбенел, не сводя глаз с Груни. Вокруг головы ее змеей обвилась черная большая коса, перевитая белыми водяными цветами. Смуглое лицо с орлиными глазами и тонкими, словно нарисованными, бровями поразило его: оно показалось ему похожим на лицо, где-то виденное им… быть может, во сне…
Груня подплыла к берегу, где над водой, на низком суку дерева, висело ее платье, и поднялась из воды уже в рубашке: рубашка была в обтяжку на груди и на бедрах и только вокруг тонкой талии лежала свободно, Размотала длинную тяжелую косу, упавшую ниже колен, выжала из нее воду, набросила сиреневое платье, а голову обвязала красной повязкой. На вид ей было лет шестнадцать.
— Лавруша! Это племянник, что ли, твой? — громко спросила Груня, и голос ее зазвучал, как свирель.
— Племянник! — солидно ответил Лавр.
Груня посмотрела на Вукола своими необыкновенными глазами, и показалось ему, что она смотрит насмешливо.
— Как тебя зовут?
Вукол стоял бледный, глядя в землю, и, как зачарованный, лишился дара слова, ничего не смог вымолвить.
— Ишь ты, ровно царевич какой!
Легкой походкой прошла Груня мимо него и, проходя, опять обожгла его насмешливым взглядом. Она скрылась в лесу, напевая протяжную песню.
— Эх, какая! — сказал Вукол с удивлением, — похожа на дочь рыбака!
Лавр не понял его:
— Она не дочь рыбака, она Листратовых дочь, у них денег куры не клюют!
Они бросились в воду и поплыли. Потом, задержав дыхание, опустились на дно, открыли там глаза, как прежде делали, и сквозь воду, как сквозь ситец, видели друг друга сидящими на песчаном дне. Потому и называлось прозрачное озеро — Ситцевым. Вынырнули наверх, брызгались и плавали, как лягушки, но из памяти Вукола не выходил образ красавицы; ему хотелось как можно скорее опять увидеть ее и смотреть, смотреть без конца.
IVВ лес въезжала телега с двумя седоками. Лошадью правил мельник Челяк, приземистый, широкий, весь выпуклый, словно ведро-челяк, которым ссыпают зерно. Рядом сидел Елизар. В задке телеги было привязано какое-то сооружение из лубка и проволоки.
Когда телега въехала в лес, мельник остановил лошадь.
— Тпрр!.. залезайте, пострелята! на Проран едем!
Ребята вскарабкались в телегу, и она задребезжала по знакомой лесной дороге.
Вслед за телегой группами шла молодежь — парни и девки, как всегда в праздник. Мельник постучал по лубку и сказал смеясь:
— Мотови́ло-готови́ло по прозванью «фир» — у ней много дыр!
Дети засмеялись, хотя и не поняли замысловатых слов Челяка.
— Ковер-самолет! — улыбаясь, добавил Елизар и, обернувшись к Челяку, продолжал прерванный разговор: — Удастся ли, нет ли, но нет никакого сомнения, что наука добьется своего и человек будет летать, как птица…
Мельник потеребил окладистую каштановую бороду и озабоченно нахмурил косматые брови. Старый казинетовый пиджак его был насквозь пропитан мучною пылью.
— Наука! — насмешливо покряхтел он, подпрыгивая на ухабах, — а где ее взять мужику? До всего своим умом доходишь!.. Я спокон веку — мельник: гляжу на шестерни, на весь мельничный состав, гляжу, как мельница крыльями машет, а улететь не может!.. и вот явилась мысль! Двадцать лет строю, но не могу достигнуть… помощи нет ни от кого! Моя машина — это только первый опыт, модель… недостатков у ней — непочатый край… слов нет, испытывал я ее — с мельницы спускался — плават! а теперь через Проран могу…
Он помолчал, кряхтя и опираясь жилистыми руками о края телеги. Сгорбившись, походил на птицу, готовую взлететь.
— А ты что строишь? — помолчав, спросил он Елизара.
— Строил давно самокатку, бросал и опять принимался… Хочу теперь опять попробовать… Ты вот мельник, а я на заводах с младости работаю… видал много моделей. Модельщик я… Заглядывал в книги… Оказывается — физику надо знать: без эфтого знания стукаешься лбом обо все, как слепой…
— Вот то-то и оно: как жук на нитке…
— Но главная моя мысль не в эфтом!.. другая, высшая, большая мысль! — вздохнул Елизар.
— Какая?
Елизар тряхнул кудрями, помолчал и сказал, понизив голос:
— Паровой самолет — вот мысль!
Мельник взмахнул руками, всплеснул ладонями, чуть не вывалился из телеги и опять уцепился за наклеску. Потом, тоже понизив голос, прошептал:
— По совести скажу тебе, и я бьюсь! Не выходит! Заминка!.. Не по себе дерево рубим…
— Молчи! — досадливо прервал Елизар. — Опыты нужны! опыты! Пройдет, может, тысяча лет, не только самолет выдумают, а вся жизнь изменится, перевернется весь мир… всю работу будет исполнять машина, а человеку останется только один — самый высший труд — мысль!.. ты вспомни, оглянись назад, чего человечество достигло? Давно ли пошли пароходы и паровозы? А ведь до эфтого только в сказке Иван-дурак по щучьему веленью на печке-то ездил!.. Над англичанином Фультоном, который паровик приспособил, смеялись все, никто не верил, никто не поддержал, с голоду помер гений!.. А вышло по ево!.. И конечно — вместо ковра-самолета — полетит паровая машина! Полетит! В эфтом нет никакого сомнения!.. И на самокатках будут ездить очень даже в скорое время… но когда-нибудь откроют и вечный двигатель!
— Может быть! не при нас только!
— А как знать? Наука чудеснее всяких чудес!.. Мысль работает не только у тебя да у меня!.. може, тысячи голов, не нам чета, бьются… и я верю: добьются люди! беспременно!
В задке телеги лежали деревянные зубчатые колесики — одно побольше, другое — поменьше, деревянный ящик, а с телеги свешивались два длинных лубка, похожих на паруса с прицепленной к ним проволокой. Ребятишкам хотелось потрогать и повертеть зубчатые колесики, подержать проволочные прутья. Вукол протянул было руку, но отец строго погрозил ему пальцем и продолжал непонятный разговор.
Телега катилась через Шиповую поляну к высоченным осокорям, уходившим в небо своими вершинами, гудевшими под теплым ветром. Они грядой стояли на самом краю высокого глинистого обрыва, и сквозь ветви их мелькало серебро широкой реки. Бойкая лошадка бежала по мягкой дороге весело и быстро, ветер дул сбоку, сдувая на сторону ее хвост и гриву.
Мельник остановил телегу, въехал под тень осокорей. Они были так громадны, что лошадь с телегой и люди на ней показались игрушечными, верхушки деревьев словно уходили в облака: на старом пне спиленного осокоря могла уместиться телега. Шум широко раскинутых серебристых ветвей сливался в торжественно плывший струнный гул. Несколько громадных деревьев, подмытых половодьем под самые корни, свалились верхушками вниз и лежали, как поверженные великаны, с обнаженными корнями, с еще зелеными ветвями. Внизу обрыва мчался бурлящий, клокочущий рукав Волги, почти такой же широкий, как и она, — Проран, излучиной отделившийся от Волги, от которой его отделял узкий продолговатый остров, густо поросший молодым тальником. За островом Проран, огибая его, опять соединялся с коренной Волгой, образуя как бы взморье шириною в несколько километров.