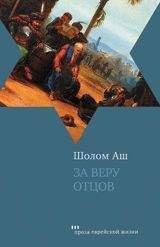— Гилел, мы тут в чистом поле, звери кругом, а ведь дело к ночи.
— Скоро будем, хозяин. Вон уже видна брацлавская церковь.
— Что мне церковь, Гилел? Надо молитву прочитать, время на исходе. А в поле опасно останавливаться.
— Скоро приедем, хозяин.
— Опоздаем на молитву, Гилел.
— Да Бог с вами, не опоздаем, даже рано приедем.
И Гилел принялся уговаривать лошадей на всех языках, какие только знал. Он кричал по-украински: «Ступайте, браты!» Потом переходил на еврейский: «Братишки милые, поторапливайтесь, хозяину молиться пора!» Но лучше всего действовали отрывки молитв на святом языке. Гилел кричал на всю степь, и лошадки летели по свежей, мокрой земле. Дорога неслась навстречу, и вскоре сани въехали на грязные улочки Брацлава.
Вокруг постоялого двора Брахьи стояло множество саней и телег. Тут собрались евреи со всей округи. Многие возвращались с ярмарки и хотели переправиться в Немиров на пароме. Река уже вскрылась, но по воде плыли огромные льдины. Путники ждали в корчме, когда погода позволит перебраться на другой берег.
Мендл встретил немало знакомых. Тут были реб Гдалья из Чигирина, реб Ехезкел, проповедник реб Иойна, реб Мойше из Немирова и многие другие. Все уже были навеселе. Шинкарь Хаскл-Бурех хлопал Брахью по плечу и кричал во всю глотку:
— Скажи жене, пусть клецки сделает на ужин!
— И фаршированные кишки! — добавлял Иойхенен-Арон, рыбак из Немирова.
— Со шкварками.
— И цимес,[30] цимес!
Но кричать уже было не нужно. У плиты стояла женщина, на огне кипел котел, и запах фаршированных кишок разносился по дому.
— Что празднуем? — спросил Мендл.
— Ничего, просто так. Весна пришла, почему ж не радоваться? На то мы и евреи. Это ведь ясно: даже гои, хоть служат деревянному идолу, и то веселятся, а мы, дети Отца нашего небесного, тем более должны! — отозвался реб Хаскл, ткнув большим пальцем Мендлу в бороду.
— Молились уже?
— Давно!
— Но в честь чего веселье? — не понимал Мендл.
— Дурень, забыл, какой год сейчас? Великий год на дворе! Уже началось!
— Что началось?
— Не слыхал? Война Гога и Магога, как в пророчестве сказано, — объяснил реб Иойна.
— Я только из Люблина, ничего не слышал.
— Злодей Хмельницкий, сотник из Чигирина, собрал войско и пошел войной на поляков.
— А что в Злочеве? — спросил Мендл испуганно.
— Глупец, война Гога и Магога, избавление близко, а он о каком-то Злочеве. Тоже мне глава общины! — Реб Иойна отвернулся от Мендла и направился в заднее помещение, где собралось множество евреев в талесах. Радостные голоса доносились оттуда: одни молились, другие пели, третьи учили Тору.
— Что со Злочевом? — спрашивал у всех испуганный Мендл.
— Да ничего. Они уже далеко. Графы Потоцкий и Калиновский выступили против них с солдатами, — успокоил Мендла реб Хаскл.
— Слава Богу, — Мендл перевел дух. — Тоже плохо кончит, как Павлюк[31] в прошлом году. Отрубят ему голову в Варшаве. Но чему вы радуетесь? — спросил он снова.
— Как не радоваться? Ведь пророчество есть. И Тора намекает, что в этом году придет Избавитель. Ведь ясно сказано: «Если начнется против меня война, в этом я не дрогну». Что значит «в этом»? Сложи числа, получится четыреста восемь.[32] Значит, в четырехсот восьмом году начнется против меня война, но я не дрогну. Понял? — Хаскл снова ткнул пальцем в бороду Мендла. — А ты, глупец, все спрашиваешь, с чего это евреи веселятся. Эй, Брахья, вели супруге добавить еще кишок за счет главы злочевской общины! — крикнул он арендатору.
— Две штуки, — крикнул Мендл, заражаясь общим весельем.
— А это что за парень? — Хаскл указал на Шлойме.
— Из Люблина возвращается, на раввина там выучился. Мой сын, чтоб не сглазить.
— На раввина? Раз так, еще кусок селезенки в горшок за счет реб Шлойме, сына реб Мендла! — снова закричал Хаскл.
— А молитву уже читали, евреи? Где тут молятся у вас? — вспомнил Мендл.
— Молятся? Здесь едят, а молятся там, — показал Хаскл.
Мендл еще застал последнее благословение.
После молитвы Брахья накрыл стол. В доме уже было темно. Снаружи слышался стук льдин на реке. Арендатор закрепил на печи две лучинки, еще два-три огонька горели в субботнем светильнике. Возчики принесли и зажгли смоляные факелы. Сдвинули вместе все столы и скамейки, омыли руки и сели ужинать.
Жена Брахьи поставила на стол огромную дымящуюся миску с фаршированными кишками, кусками селезенки и печени. Брахья выкатил бочонок водки. Сперва немного выпили, потом стали вынимать из миски кишки, отрывать куски, угощать друг друга. Был там кантор из Умани, попросили его спеть. Потом скрипач, разъезжавший по ярмаркам в поисках заработка, порадовал народ своей игрой. Был там еще старый лирник-украинец, из уважения к возрасту его тоже пригласили к столу. Не раз приходилось ему играть на еврейских свадьбах, радовать евреев своей лирой и пением, и теперь он спел прекрасную песню о старом короле, у которого сыновья обманом отняли власть, а потом изгнали его из королевства.
Между песнями говорили об Избавителе, о том, что освобождение близко, о войне Гога и Магога, а когда уже изрядно выпили, в комнату тихо вошли женщины. От радости, что грядет избавление, никто не стал возражать, и женщины начали танцевать. Музыканты подыгрывали им, остальные хлопали в такт, и, совсем уже забывшись, кое-кто поднялся из-за стола и пошел танцевать с женщинами, держа их за руки через платок.
А старые, благочестивые евреи смотрели на все это и ничего не говорили, потому что очень велика была радость от того, что избавление близко.
Так веселился народ целую ночь. Много песен спели, много цитат вспомнили из Торы, много нашли намеков, что Избавитель явится в этом году. И среди православных, как рассказал старый лирник, тоже говорят о том, что скоро свершатся великие дела. Был он в Киеве, слышал там, как поп обнаружил в церкви письмо, посланное их богом, Иисусом из Назарета, а в письме написано, что будет в этом году великий суд надо всеми…
Но в углу сидели трое ученых, знатоков Каббалы, и не принимали участия в общем веселье: один — толстый, высокий мужчина, другой — совсем еще юный, очень худой, кожа да кости, а третий — старик с седой бородой. Толстяк постился, чтобы уменьшить свою плоть. Столь велико было его тело, что душа нередко в нем терялась. Когда подали на стол горшки с едой, он едва мог сдерживаться, так сильно было в нем стремление к плотским утехам. Он прикрыл глаза, но запах еды не давал покоя.
— Что там сейчас едят? — спросил он соседа.
— Фаршированные кишки, — ответил тот.
— Вот как? — горько вздохнул толстяк. И, чтобы наказать свое грешное тело, открыл глаза и стал смотреть на еду.
Двое других тоже постились, никто не знал почему. Вдруг юноша, не выдержав, вскочил с места:
— Зачем радуетесь понапрасну? В Книге Эсфири выделены буквы «тов» и «хес», которые обозначают четыреста восемь. Не значит ли это, что указ Амана будет выполнен в четырехсот восьмом году?
Все испуганно оглянулись.
— Замолчи! — крикнул вдруг старик. — Не можешь смотреть, как народ радуется? Мало, что ли, служит еврейский народ Господу в печали, а как только решили послужить Ему в радости, ты не даешь! Веселитесь, братья. Сказано в Торе: «В этом войдет Аарон в Святая Святых». «В этом» — четыреста восемь, в четырехсот восьмом году будет восстановлен Храм, в четырехсот восьмом году придет спасение.
Теперь Шлойме узнал старика: это был благочестивый портной.
В соседнем помещении стояли евреи, закутавшись в талесы, и молились, как в праздник, во весь голос выпевая благословения.
У порога стояли мать и служанка, ждали Шлойме. Ни мать, ни кормилица его не узнали. Изменился Шлоймеле, вырос, превратился в настоящего мужчину. Уже пробилась черная бородка, которая делала его старше. Свет Торы лежал на его лице. Мать оробела перед сыном, не знала даже, можно ли обращаться к нему на ты. Маруся, всхлипывая, вытирала глаза:
— Вырос наш теленок, не узнаёт старую корову, что его выкормила.
Для молодой семьи приготовили лучшую комнату. Вдоль стены стояли две резные кровати с подушками чуть ли не до низкого потолка. Зеленый полог отделял их друг от друга. В углу стоял огромный, окованный железом сундук на колесах, наполненный одеждой и женскими украшениями. К сундуку прибит кожаный ремень, чтобы, если придет беда, если, не дай Бог, придется покинуть дом, можно было впрячься в него и тащить за собой. Еще в комнате стояли стол, конторка, чтобы молиться, и даже готовая колыбель для будущего ребенка. И конторку, и колыбель Мендл специально заказал для молодой пары. Но главное — полка со святыми книгами. Книги были самым важным пунктом брачного договора, и тесть Шлойме, раввин, проследил за выполнением этого пункта. Книги были дороже украшений Двойры, дороже приданого. И не потому, что стоили немалых денег, но потому, что много лет и Мендл, и раввин с трудом и любовью собирали эти духовные сокровища.