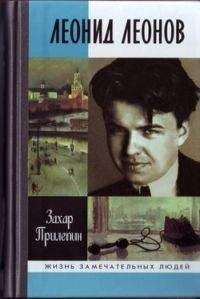К несчастью, из-за отсутствия каких-либо прямых указаний на принадлежность находки сочинитель мог легко отречься от авторства. Тогда, по зрелом размышлении, Петр Горбидоныч решил отослать находку со своими пометками владельцу, чем подчеркивал свое великодушие, бдительность и неусыпное коварство. Перед отсылкой, однако, он снял себе с документа четыре нотариально заверенных копии, на случай если одна сгорит, другая тоже сгорит, а третью постигнет что-либо вовсе непредвиденное.
Кстати, за последнею из прочитанных Петром Горбидонычем фирсовских записей начиналась уже полная, страниц на десяток, неразбериха хаотических, одна поверх другой, подробностей какой-то, видимо, важнейшей вфирсовской повести главы. Но если бы у бедного преддомкома имелся такой же навык проникать в хаосе первоначального сочинительского замысла, как в путаную бухгалтерию налогоплательщиков, видеть завтрашний сад в оброненной семянке и проращивать за автора недописанные мысли, бродить по лабиринтам наводящих стрелок и трехэтажных перекидок, словом — нанизывать на логическую нитку беспорядочный, иногда закатившийся под строки бисер, то представшая перед ним глава доставила бы Петру Горбидонычу истинное наслаждение, так как касалась дальнейшего падения главного его врага Векшина.
Прежде всего он узнал бы, что событие это состоялось в начале ноября, когда снизу задувала колючая поземка, а сверху ночная пучина ударяла по городу злою снежной пылью. Застигнутые беспримерно раннею зимой извозчики подымали верха пролеток, и пешеход на перекрестке суеверно задирал голову, силясь разглядеть причину в беспросветном бешеном вращении таежной мглы. Метельные вьюнцы шныряли и пели в щелях и водостоках, и отправлявшийся на работу в низок Фирсов даже подивился в новой записной книжке отдельной строкой — «как это не лопнут щеки у ветра!».
Все тот же под вывеской, где год назад знакомился он с Манюкиным, безнадежно мотался на железном глаголе фонарь… только сквозняком эпохи посдувало прежние буквы с городских вывесок, а другие, помоднее, намело, но смысл их остался все тот же — пивной, развеселый, утешительный… Словом, чем неистовее хлесталась снаружи непогода, тем тесней смыкались тут в беседах сердца друзей.
По-иному расставлены и столики, совсем разлохматилась африканская пальма в углу: изнашивается и фальшивое, старятся и от безделья… но те же, подновленные масляным лаком, лоснятся ниши в отсыревших стенах, тот же носится по опилковым дорожкам разбитной пятнистый Алексей. Только серым озлобленьем подернулся постаревший на год Алексеев лик, да не звучит больше площадной романс простонародной певицы. Пять понуро скрюченных людей в фуфайках играют на мандолинах, совершая непривлекательные движения правой рукой, уныло колотит по клавишам бестолковый тапер… никак не ладится к пивному гаму их щекотальная музыка.
Под свесившей сизые космы африканской ведьмой снова маячит в табачной дымке клетчатый демисезон, но никого теперь не пугает, что нет-нет да и черкнет два словечка его карандаш на продавленной папиросной коробке… Сочинитель угощает задушевных своих друзей и сам с ними чуть навеселе от участия и жалости.
— Не пила бы ты больше, Ксеня… — вполголоса просит Санька Велосипед, с притворным равнодушием разламывая вареного рака. — Сама знаешь, не положено тебе это, не пей…
— Ах, уж все равно мне теперь, строгий хранитель мой! — улыбается она и, смахнув с кружки клок горькой грязноватой пены, несет ко рту. — Мне нынче все на свете можно… верно, Федор Федорыч?
— Не знаю, право… — сомнительно качает тот головой и смотрит поверх очков, запоминает готовые отцвесть нестерпимые розаны сгорания и неизлечимого недуга в ее лице: у подбородка один, другой близ самого виска.
В этот вечер Фирсов курит больше, чем пьет, наугад тыча окурки под пальму.
— И ты напрасно за меня боишься, Саня, — чуть небрежно говорит ему жена. — Жизнь моя будет еще бесконечно долгая… а знаешь, как я того добилась, Федор Федорыч? Я остаток ее на мелкие грошики разменяла, так что их получилось у меня великое множество, и я скупо живу. Каждую денежку долго в пальцах держу, налюбуюсь досыта, прежде чем начисто отжить ее… во как у меня, Федор Федорыч!..
— И всегда, заметь, слеза у ей катится, Федор Федорыч, как сейчас! — вскользь пожаловался Санька.
— Так ведь это не от горя у меня, Саня, а скорей… — и Ксения поискала в воздухе перед собою нужное слово, — скорей от этого… ну, от созерцания! Я болезни моей по гроб благодарная, она меня всего на свете бояться отучила, так что я теперь ни пылиночки про себя не скрываю. Я теперь человек из-за ней стала, ничего не страшусь, на все смотрю да щурюсь. Вот мы наше детство с покойной сестрой у деда провели… огромное поместье у него было, и все там у нас свое имелось: река и лес дремучий, даже гора своя была, небольшая, правда… Кума-гора называлась! Чудно даже, что еще год назад я до изнурения, до мерзкого пота в ладонях прятала эту тайну, а теперь любая опасность вокруг только веселит меня… это ценить надо, Саня! — Она как-то расслабленно улыбнулась от достигнутого счастья. — У матери мания была, чтобы дети под открытым небом спали, и я привыкла, засыпая, на звезды глядеть… как они шепчутся там, а иная сверкнет и сгинет.
— Метеоры называются… — глухо и просветленно пояснил Фирсову ее муж.
— Я тогда и поняла, что и люди так же… тысячу веков летят во тьме, скорчась в этакие… ну, беспамятные камни, а достигнув земных пределов, начинают светиться, сгорать, плавиться, и так — весь путь земной, пока не скроются во тьме до будущего раза. А пепелок их падает вниз, свой у каждого. От тебя, Федор Федорыч, книжка про нас с Санькой, от меня слезинка упадет на эту… ну, эту проклятую и милую землю мою!
Почти задохнувшись, она с открытым ртом перевела дыханье, запила пивом и больно закашлялась, а муж протянул руку и как-то благоговейно смахнул повисшую у ней слезинку.
— Нежная, летящая над миром в вас душа, Ксения Аркадьевна… — взволнованно сказал Фирсов, — но зачем вы так торопитесь промотать последний грошик жизни? Это уж не щедрость, а растрата…
За приступом кашля вряд ли она расслышала хоть слово.
— И я не жалуюсь, Федор Федорыч, что солнышка на мою долю мало досталось… даже слюбилась с ненастьем моим… иной раз ноги застынут мокрые, а мне все одно хорошо!.. И я богу моему по гроб благодарная, что он мне, шлюхе, такого человека, Саньку Велосипеда, лучшего человека на земле, в мужья послал! Видать, я тому матросу из твоей книжки сродни, помнишь? — Она улыбнулась, переходя на певучий размер народного сказа. — Славно у тебя описано, Федор Федорыч, — как отстал он в тифу, помнится, от своего отряда в гражданскую войну и привалился, бедняга, к тыну передохнуть, а уж такая слякоть стояла в тот вечерочек по всей земле. А случилось тут фее-красоточке по делам окрестность пролетать… заприметила бродягу, да и втюрилась на свою печаль, как часто с нашей сестрой бывает… вот как я в тебя, Саня!.. ни за что бабенка врезалась, единственно за его бездомное да несбыточное скитание. Вся затрепетала, бедная, вознесла моряка к себе в небесные хоромы, подлечила, устроила ему чистую семейную жизнь при полном окружающем достатке. Стал поправляться парень, а через недельку омордател совсем от трехразового-то питания… и помнишь, Федор Федорыч, как у тебя там сказано? «Не то чтоб помогал дамочке своей в ее благотворительной деятельности, а преимущественно создавал ей необходимое к тому расположение…» — прочла наизусть Ксения, и никогда еще на фирсовской памяти так не совпадал его слог и хлесткий текст с душой чтеца. — Словом, стал при ней тот матросик, по-нашему, по-блатному, вроде заправский кот…
В это самое время какое-то чрезвычайное замешательство случилось в пивной. Заодно с оркестром все затихло ненадолго, самая речь и звон посуды, холодком повеяло от входной двери, и почти рядом с фирсовским столиком произошла краткая суматоха, по ни Ксения, ни оба ее слушателя даже не оглянулись, увлеченные рассказом.
Тут еще Санька обеспокоенпо тронул локоть жены, потому что слишком уж исходила палящим жаром, словно и впрямь догорала на лету.
— Сам же он, Фирсов, и писал, глупая… чего ж ты ему рассказываешь?
— Не мешайте, Бабкин, у меня это всего лишь чернилами написано… — сурово обмолвился Фирсов.
— Так валялся раз матросик в ожидании ненаглядной феечки, поглядывал со своей облачной перинки в суме-речки под собою… — продолжала Ксения и вдруг благодарно погладила фирсовскую руку. — Россия наша внизу под ним лежала, и по всей той России дождик шел. И неизвестно, чего вдруг от этого парию приключилось, а только поскидал он с себя легкую ночную одежку из стрекозиных крылышек, достал болотные свои сапоги, в старый бушлат облачился поверх тельняшки, да, пока не воротилась, и шмыгнул с высот от своего круглосуточного счастья в самую что ни есть хлябь беспросветную, на эту, как ее?.. ну, на проклятую нашу и милую!.. Покажи мне чернильницу свою, Федор Федорыч, я ее поцелую… во как! — заключила Санышна жена дрогнувшим голосом, и опять в ее влажной, глубоко запавшей глазнице сверкнуло что-то, потрясшее Фирсова.