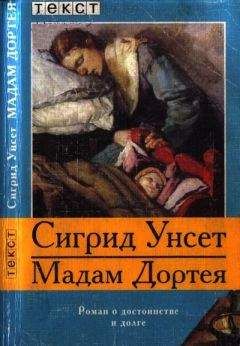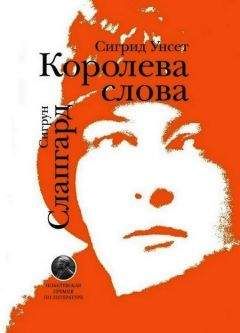Когда Улав насытился, усталость одолела его. Он сидел, прислонясь затылком к бревенчатой стене, кровь сильно билась в жилах на шее, стучала в ушах, веки смыкались, когда он хотел остановить на чем-нибудь взгляд, пламя свечи у постели умирающей двоилось у него в глазах. То и дело глаза его закрывались, и тогда видения и мысли обрушивались на него, словно густые облака, обгоняющие друг друга, а когда он, пытаясь собраться с силами, вновь открывал глаза, все исчезало из его памяти. Он чувствовал себя отупевшим и опустошенным, воспоминания о вчерашней ночи, обо всем, что он только что пережил, казались ему далеким, полузабытым сном.
Опять пришел неутомимый брат Стевне и снова стал докучать ему – велел прилечь на кровать у северной стены, обещая разбудить его, коли будет какая перемена с женою. Улав упрямо покачал головой и продолжал сидеть. Так подошло время обеда.
Он то спал, то дремал, но вдруг, очнувшись, увидел, что брат Стефан суетится подле умирающей. Опустившись на колени, монах одной рукой поднял распятие к лицу Ингунн, а другою подавал Улаву знаки.
В один миг оказался Улав у постели Ингунн. Она лежала с широко открытыми глазами, но, казалось, ничего не видела – ни распятия в руке священника, ни Улава, склонившегося над нею. На секунду ее большие сине-черные глаза оживились, взгляд словно искал кого-то. Улав наклонился ближе к жене, монах подвинул к ней распятие, но слабая тревога все еще трепетала в ее взгляде.
Тогда Улав подошел к Эйрику, взял его за руку и подвел к постели матери. Монах стал читать отходную.
– Ты видишь Эйрика, Ингунн? Вот он здесь!
Он обнял мальчика за плечи и прижал к себе. Теперь Эйрик уже доставал ему до плеча. Улав не мог понять, узнает ли их Ингунн.
Потом он опустился на колени, продолжая обнимать мальчика. Эйрик упал на колени рядом с отцом и, тихо и горько всхлипывая, шептал слова молитвы:
– Kyrie, eleison! [Господи, помилуй! (лат.)]
– Christe, eleison [Христос, помилуй! (лат.)], – прошептали отец и сын.
– Kyrie, eleison Sancta Maria! Ora pro ea [Господи, помилуй! Святая дева Мария! Молись за нее (лат.)], – они оба не сводили глаз с умирающей.
Муж вглядывался в ее глаза с надеждой, что она все же узнает его. Мальчик глядел на мать со страхом и недоумением, слезы текли по его щекам, и он всхлипывал, отвечая:
– Ora pro ea! Orate pro ea… [Молись за нее! Молитесь за нее… (лат.)]
– Omnes sancti Discipuli Domini, orate pro ea [все святые ученики господни, молитесь за нее (лат.)].
Ингунн тихо вздохнула и жалобно застонала. Улав еще ниже нагнулся к ней, но с ее белых губ не слетело ни слова. Они оба продолжали читать слова отходной:
– Per nativitatem tuam libera ei, Domine. Per crucera et passionem tuam libera ei, Domine! [Рождеством своим спаси ее, господи. Крестом своим и страданием своим спаси ее, господи! (лат.)]
Она закрыла глаза, руки ее сползли с груди и упали на постель. Монах снова сложил их крестом на ее груди, не переставая молиться:
– Per adventum Spiritus sancti, Paracliti, libera ei Domine! [Сошествием святого духа, утешителя, спаси ее, господи! (лат.)]
– Ингунн, Ингунн, очнись хоть на миг, дай мне увидеть, что ты узнаешь меня…
– Peccatores… [грешников… (лат.)] – читал монах, и отец с сыном отвечали:
– Te rogamus, audi nos! [Тебя молим, услышь нас! (лат.)]
Она еще дышала, и веки ее слегка дрожали.
– Kyrie, eleison [Господи, помилуй, (лат.)].
Они прочли молитву до конца, а Улав все еще стоял на коленях, прижимая Эйрика к себе. Он не переставал молить про себя: сделай так, чтобы она очнулась хоть на короткий миг, дай нам сказать друг другу прости! И хотя за эти три года он каждую ночь будто совершал с нею сошествие в царство мертвых, сейчас ему казалось, что он не в силах расстаться с нею. Расстаться вот так, не сказав последнего прости, прежде чем она исчезнет во вратах смерти.
Эйрик, припав к постели, плакал горько и безудержно.
Вдруг губы умирающей зашевелились. Улаву показалось, что она прошептала его имя. Он быстро склонился над нею. Она сначала пробормотала что-то непонятное, потом прошептала яснее:
– …не уходи из дому… ненадежно там… неровен час… не делай этого, Улав…
Он ничего толком не понял – в бреду она говорила или наяву. И что это означало… Сам не понимая, что делает, он поднялся с колен и поднял Эйрика.
– Не надо так громко плакать, – прошептал он, подвел его к скамье и усадил.
Эйрик бросил на Улава взгляд, полный отчаяния. Лицо мальчика распухло от слез.
– Батюшка, – прошептал он, – батюшка, ты не отошлешь нас прочь из Хествикена, когда матушка помрет?
– Отошлю прочь? Кого? – словно очнувшись, спросил Улав.
– Нас. Меня с Сесилией…
– Ясное дело, не отошлю… – Улав замолчал, у него перехватило дыхание. Ребятишки… О них он совсем позабыл этой ночью, когда передумал обо всем на свете. Его это ошеломило, но сейчас он не хотел об этом думать, старался отогнать эту мысль от себя. Будто во сне опустился он на скамью рядом с Эйриком.
С этим он сейчас был не в силах бороться. Но ребятишки – о них он совсем позабыл.
Уже перевалило за полночь. Постепенно все, кто были в горнице, устали бодрствовать и ждать последнего вздоха. Лив не раз приносила сюда Сесилию, но мать лежала в забытьи, и дитя было беспокойно и все время кричало, служанке пришлось унести его. Потом с ними ушел и Эйрик. Улав слышал за дверью их голоса.
Он сел на скамеечку у постели. Брат Стефан дремал у стола над раскрытым молитвенником. В горницу неслышно вошли челядинцы, опустились на колени и стали тихо читать молитвы. Потом немного посидели и ушли. Улав как-то весь занемел – он не спал, он страшно устал и обессилел, казалось, в голове у него вместо мозга была какая-то серая шерсть.
Когда он снова взглянул на Ингунн, то заметил, что веки у нее приподнялись, полуоткрыв потухшие глаза.
В первые недели после смерти Ингунн Улав почти не спал – вернее, сам не знал, когда спал; но, должно быть, все-таки спал хоть немного, потому что жизнь в нем еще теплилась. На рассвете ему казалось, будто в голове у него поднимается густой туман, сбивая и путая мысли. Потом этот туман успокаивался и лежал в голове, плотный и серый. Но он беспрестанно ощущал страшную тяжесть, и даже во время утренней полудремы мысли его перемалывали подспудно одно и то же, и сквозь туман он слышал все звуки – и в доме, и на дворе. Он мечтал хоть раз выспаться по-настоящему – погрузиться в полный мрак и небытие. Но насладиться сном он никак не мог.
Уснуть ему не давала мысль о детях. В ночь, когда он ехал домой, к Ингунн, лежавшей на смертном одре, он принял решение. Он сказал богу: да, я приду к тебе, потому что ты мой бог, ты – для меня все, я хочу припасть к ногам твоим, ибо я знаю, что ты жаждешь принять меня.
А как же дети? Казалось, и бог, и он сам забыли о них. Покуда Эйрик не спросил его: «Ты не отошлешь нас прочь из Хествикена?»
Он не мог понять, как мальчику могло прийти это в голову. Это никак не могло случиться само по себе.
И тут он вспомнил о последних словах Ингунн и задумался.
«…не уходи из дому… ненадежно там… неровен час… не делай этого, Улав…»
Может, она просто говорила во сне, может, ей снилось, что он собирается идти по тонкому льду. А может быть, душа ее разлучилась с телом, и она узнала, что с ним сталось в ту ночь. Подумать только, оба они – и она, и Эйрик – узнали о том и стали просить его.
У детей не осталось никого, кроме него. Их ближайшим родичем был Халвард, сын Стейнфинна, который жил далеко на севере, во Фреттастейне. Улав представлял себе, что подумает Халвард, если он признается в злодейском убийстве, совершенном двенадцать лет назад. Дядя не примет с ласкою его детей. К тому же, верно, откроется, что Эйрик…
Ведь тогда он должен будет признаться, что хотел прикрыть незаконного наследника, обмануть своих ближайших родичей в дележе родового наследства, отдать долю его чужаку.
Коли он сделает то, что задумал в ту ночь, у детей его будет лишь одна дорога: Сесилию он должен будет отдать с материнским наследством в монастырь сестрам из Ноннесетера, а Эйрика отослать в церковь или к братьям-проповедникам.
Сердце его сжималось, – неужто в этом и был весь смысл? Неужто его род должен умереть вместе с ним за то, что он сорвал с себя венец, совершив злодеяние? Неужто ему должно стать бездетным, потому что злодею не следует продолжать свой род? И детям, которых он зачал, будучи отторгнутым от бога за свое упрямство, не суждено было продолжить род, на который он навлек несчастье. Один-единственный сын был у негр, и его он никогда не сможет ввести в свой род. А единородная дочь его должна покинуть мир, исчезнуть за монастырскими вратами.
Эйрик… Иногда ему казалось, будто он жалеет мальчика. Нелегко было бы ему вернуть его к той жизни, из которой он когда-то вырвал сына Ингунн, рожденного во грехе. К тому же, порой ему думалось, что он, несмотря ни на что, любит его.
Особенно часто он чувствовал это ночами, когда Эйрик спал рядом с ним, у стены; нет, он никак не сможет снова обречь ребенка на долю, для которой тот был рожден.