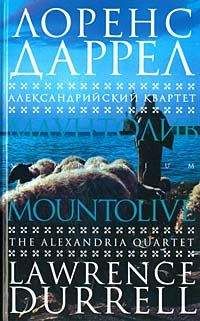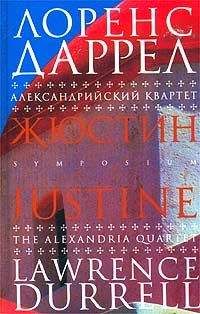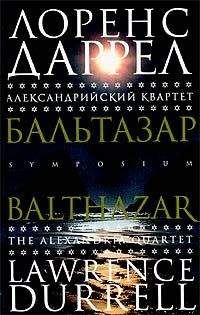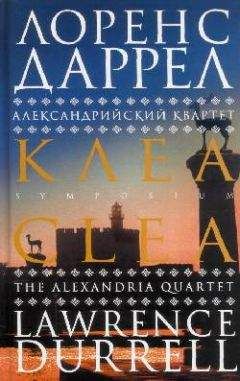Если я стану писать тебе чушь — во власти африта (слуги так говорят), не отвечай. Приступы длятся не более двух дней.
Так начался отсчет иной эпохи. Годы напролет она сидела в Карм Абу Гирге, чудаковатая затворница, закутанная с ног до головы, и писала свои длинные, изысканные, умные письма и, не трогаясь с места, с прежней царственной свободой путешествовала по утраченным царствам Европы, в которых сам он был пока что гостем — не более. Вот только поубавилось в ней былой неуемной любознательности. Она все реже оглядывалась по сторонам в поисках новых впечатлений и все чаще — назад, словно пытаясь освежить в памяти важные когда-то мелочи. Слышны ли все еще цикады в Тур Мань? Сена у Буживаля и в самом деле цвета зеленой ржи? А шелковые костюмы в сьенском Паллио? Вишневые деревья Наварры… Она пыталась верифицировать прошлое, поглядеть через плечо, и Маунтолив из каждой своей поездки прилежно отправлял ей сувениры. Рембрандтова маленькая обезьянка — она ее придумала или и впрямь видела на полотне? Нет, нет, обезьянка существует, писал он ей печально. Иногда, очень редко, проскальзывали новые темы.
Меня заинтересовали, и весьма, несколько разрозненных стихотворений из сентябрьских «Вэльюз», за подписью некого Людвига Персуордена. Нечто новое в них и резкое. Раз уж ты все равно едешь в Лондон на той неделе, наведи там для меня о нем справки. Он что, немец? Не тот ли это романист, что написал две странные книги об Африке? Имена совпадают.
Просьба эта как раз и привела Маунтолива прямиком к первой встрече с поэтом, сыгравшим далее в его жизни отнюдь не последнюю роль. Несмотря на весь свой едва ли не французский пиетет (с подачи Лейлы, разумеется) перед художниками, он все же нашел имя Персуорден странным, почти комическим, когда надписывал ему открытку и отсылал ее — через издателя. Ответа не было целый месяц, но поскольку в Лондон он приехал на трехмесячные курсы переподготовки, он мог позволить себе толику терпения. Когда же ответ пришел, Маунтолив с удивлением увидел, открыв конверт, листок знакомой, общей для всей Foreign Office почтовой бумаги; как оказалось, Персуорден состоял в должности младшего сотрудника отдела культуры! Он сразу же набрал нужный номер и был приятно удивлен мягкими, без намека на развязность модуляциями на другом конце провода. Он уже было представил его себе наполовину — этаким агрессивным выскочкой — и с облегчением отследил в его голосе цивилизованную нотку сдержанного юмора. Они договорились встретиться в тот же вечер в «Компасах» у Вестминстерского моста, и Маунтолив ждал этой встречи с двойным нетерпением, за себя и за Лейлу, уже предвкушая, как во всех подробностях отпишет ей позже о рандеву с ее поэтом.
С неба сыпала мелкая снежная взвесь, таяла, едва коснувшись тротуаров, и оставалась жить чуть дольше лишь на шляпах и воротниках пальто. (Снежинка на ресницах разбивает мир вдребезги, в радужный вихрь основных цветов спектра.) Маунтолив спрятал, как мог, лицо и, свернув за угол, успел как раз увидеть молодую пару, входящую в «Компасы». На девушке, обернувшейся в дверях, чтобы бросить спутнику через плечо фразу, была прелестная накидка из шотландки, закрепленная большой белой брошью. Теплый электрический свет плеснул на широкое бледное лицо, на темные вьющиеся волосы. Она была потрясающе красива, и нечто особенное в ее красоте, какое-то странное спокойствие, заставило Маунтолива на мгновение задуматься. Потом он понял: она слепая; ее лицо было поднято чуть выше, чем следовало бы, так держатся те, чьим словам не судьба бить в настоящую мишень — в глаза других. Так она стояла целую секунду, пока мужчина не ответил ей что-то со смехом и не подтолкнул ее через порог. Маунтолив вошел следом за ними, и сразу рука его встретила теплую, спокойную руку Персуордена. Слепая девушка, судя по всему, была его сестра. Несколько первых скомканных минут — потом они заняли столик в углу, у камина, и заказали выпить.
Персуорден, пусть в облике его и не было ничего особенного, выглядел человеком вполне нормальным. Он был среднего роста, блеклый блондин с едва заметной ниточкой усов над хорошей формы ртом. Масть его, однако, находилась в разительном противоречии с мастью сестры; Маунтолив пришел даже к выводу, что слепая, вероятно, красится, хотя великолепное темное буйство ее волос выглядело вполне естественным, да и брови, изящные тонкие брови, тоже были темными. Одни только глаза могли бы дать ключ к секрету средиземноморской сей пигментации, а вот их-то как раз и не было видно. То была голова Медузы, слепая театральной слепотой греческой мраморной статуи — ослепшей словно бы от длительного, через века, сосредоточенного созерцания солнечного света и голубой воды. Но при этом — ни намека на властность в выражении лица, только нежное, тихое обаяние. Длинные, с шелковистою кожей пальцы, мягко расширяющиеся у основания, как пальцы пианиста, тихо двигались по гладкой дубовой столешнице на полпути между нею и Маунтоливом, осязая, поверяя на ощупь, — словно бы не решаясь приписать его голосу какие-то определенные свойства. Порою губы ее чуть заметно подрагивали, она как будто повторяла про себя их слова, взвешивая украдкой смысл и звучание; и тогда она становилась похожа на человека, следящего в концерте за музыкальной пьесой с собственной партитурой на коленях.
«Лайза, дорогая моя?» — сказал Персуорден.
«Бренди с содовой». — Голос был чист и мелодичен, на ровной, безмятежной ноте — этим голосом, на этой ноте, произнести бы: «Мед и нектар».
Заказ был принят, они опустились на стулья, как прежде, немного скованно. Брат и сестра сели рядом, и оттого Маунтоливу подумалось — они готовы к обороне. Лайзина рука скользнула к Персуордену в карман. Так начался, несколько отчужденно поначалу, разговор, продлившийся потом до самой ночи, разговор, тщательнейшим образом воспроизведенный им впоследствии для Лейлы: на память, слава Богу, он не жаловался.
Он был сперва немного скован и нашел выход в чуть робкой, застенчивой манере, впрочем, не без приятства. Я был немало удивлен, узнав, что на следующий год его отправляют в Каир; я рассказал ему о тамошних моих друзьях и предложил отрекомендовать его письменно некоторым из них, Нессиму в частности. Может быть, мой чин смутил его поначалу, но вскоре все встало на свои места; много пить он явно не привык и уже после второй заговорил совсем иначе, резковато, но весьма забавно. Я увидел перед собой совершенно иного человека — он не без странностей, конечно, и горазд на парадоксы, как и должно художнику, но у него вполне устоявшиеся взгляды на целый ряд предметов, пусть некоторые из его идей и не в моем вкусе. Сразу чувствуется, что в основе лежит личный опыт, а не желание эпатировать публику. Он, к примеру, придерживается вполне старомодных реакционных убеждений, а потому в достаточной степени mal vu [12] среди собратьев по профессии, они подозревают в нем едва ли не профашистские симпатии; всеобщая эпидемия левизны, да и вообще всякого рода радикализм, откровенно его раздражают. Но взгляды свои он излагал с юмором и без всякого жара. Я, например, так и не смог вытянуть его на серьезный разговор о событиях в Испании. («Все эти beige [13] молодые люди, готовые жизнь положить за Левый литературный клуб!»).
Маунтолив был даже слегка шокирован его высказываниями, столь же резкими, сколь и отточенными, ибо сам он разделял едва ли тогда не всеобщие эгалитаристские симпатии — пусть даже и в аморфном, приправленном изрядной долей либерализма виде, принятом в то время в Office. Персуорден позволял себе порой этакую царственную снисходительность к предмету разговора, и это, как ни странно, и впрямь делало его внушительней.
Каюсь, — писал Маунтолив, — я сидел тогда и думал: вот человек, которого я не смог бы с точностью определить по тому или иному разряду. У него скорее взгляды, нежели позиции, и, должен заметить, он высказал целый ряд идей весьма интересных, я кое-что запомнил, специально для тебя, вроде: «Работа — единственная приемлемая для художника форма общения с современниками, поскольку истинных друзей он ищет среди мертвых либо нерожденных. Потому художник и политика суть вещи несовместимые, это не его дело. Его должен интересовать аспект скорее ценностный, нежели социальный. А нынче все это напоминает мне какой-то дурацкий театр теней, ибо управление государством есть искусство, а не наука, так же как и общество — организм, а не система. Его мельчайшая составная часть — семья, так что роялизм есть самый что ни на есть правильный для него структурный принцип: ведь королевская семья — зеркальное отражение рода человеческого, идолопоклонство здесь вполне уместно. Я имею в виду для нас, британцев, с нашим донкихотским, в сущности, темпераментом и с умственной нашей ленью. О прочих ничего сказать не могу. Что касается капитализма, все его недостатки вполне излечимы посредством справедливого налогообложения. Нам бы поставить целью не мифическое всеобщее равенство, но просто право всеобщей справедливости. Вот только королям придется в подобном случае измыслить целую философию каст и классов, как-то было в Китае; абсолютная монархия — не выход в нашей ситуации, слишком низко пала философия трона. Это и к диктатуре относится тоже».