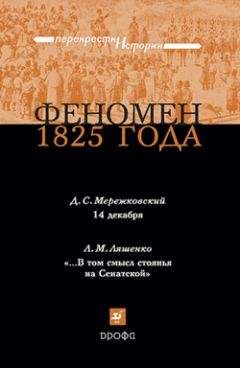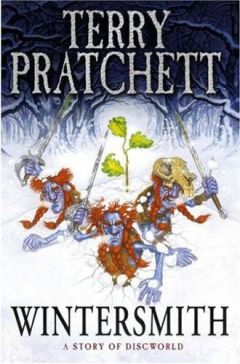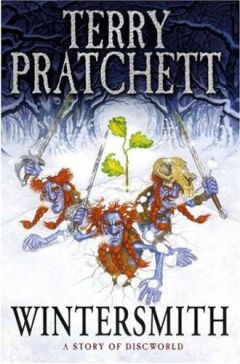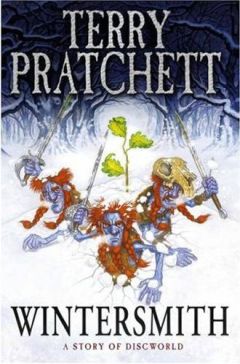– Да что же решать? Все равно не решим.
– А ведь, пожалуй, что так: не решим. А может, и решать не надо. Обстоятельства покажут… Ну ладно, с богом! Значит, до завтра? – положил ему руки на плечи и приблизил лицо к лицу его так, что он почувствовал его дыхание. – А вы, Трубецкой, на меня не сердитесь? Не сердитесь, голубчик, ради бога! – улыбнулся детски неясной улыбкой. – Уж виноват, сам знаю, что виноват! Распоряжался, не слушался, вольничал. Ну, да уж этого больше не будет, кончено. Завтра вы диктатор, а я рядовой, ваш раб верноподданный. Пикни только кто против вас, – своими руками убью! Ну, Христос с вами! – хотел его обнять, но тот отшатнулся и побледнел еще больше. – И обнять не хотите? Так, значит, сердитесь? – заглянул ему прямо в глаза Рылеев.
Трубецкой думал только о том, как бы уйти поскорей: боялся, чтобы опять дурно не сделалось. Вдруг обнял и поцеловал Рылеева. «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» – подумал и выбежал из комнаты.
Опомнился только на площадке лестницы. Почувствовал, что кто-то держит его за полу шинели. Оглянулся и увидел Оболенского. Он что-то говорил ему. Трубецкой долго не мог понять что; наконец понял:
– А все-таки будете завтра на площади? Сделал над собой усилье.
– Да что ж, если две какие-нибудь роты придут, что может быть? Кажется, все тихо пройдет, – ответил почти спокойно.
– А все-таки будете? – не отставал Оболенский, держал его за полу. Но Трубецкой уже ничего не ответил, вырвался, выбежал на улицу, бросился в карету, крикнул кучеру: «Домой!», захлопнул дверцу и забился в угол, ни жив ни мертв.
В карете пахло чайною розою – милым Каташиным запахом.
«Еще не знает! А ведь узнает когда-нибудь», – подумал с новым ужасом.
«А все-таки будете завтра на площади?» – опять прозвучало в ушах.
Вскочил, потянулся к окну, хотел опустить стекло и крикнуть кучеру: «Назад, к Рылееву!» Но ослабел, изнемог, упал на подушки, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким.
Голицын решил, едучи в Петербург, остановиться в гостинице Демута на Мойке, у Полицейского моста. К себе на квартиру, в дом Бауера, у Прачешного моста, не заезжал, потому что она стояла все лето неубранная, а единственный слуга его, старый камердинер, уехал на побывку в деревню; да и сыщиков боялся, – знал от Рылеева, что за ним следят. Но когда привез в почтовом дилижансе из Москвы обеих спутниц своих, госпожу Толычеву с дочерью, к Наталье Кирилловне Ржевской, сдал их ей с рук на руки и стал прощаться, чтобы ехать в гостиницу, старуха об этом и слышать не захотела.
– Что ты, батюшка, помилуй! Слыхано ли дело, из честного дома гостя в трактир отпускать! Мало тебе горниц, что ли? Весь дом пустехонек. Живи на здоровье. Да ведь ты же нам и свой человек.
Едва не с первых минут знакомства Наталья Кирилловна сосчиталась с ним свойством отдаленнейшим.
Голицын согласился тем охотнее, что ему казалось, что в доме ее он будет в большей безопасности, и еще потому, что не хотелось расставаться с Маринькой.
Дом Ржевской был на Фонтанке, у Аларчина моста. Место глухое. Кругом пустырь; только на окраине его виднелись низенькие домики. Иногда, по ночам, в темноте с пустыря слышались вопли: «Караул! Грабят!» Испуганные люди вскакивали с постелей, отворяли форточки, высовывали головы и отвечали как можно внушительней: «Идем!» – но не шли, а снова забивались в теплые постели и с головой под одеяла прятались.
Окруженный старым садом, когда-то регулярным, но давно уже запущенным, дом похож: был на загородный дворец вельмож: екатерининских.
В больших сенях, с колоннами и мраморной лестницей, седые слуги дремали, вязали чулки или читали Псалтырь вполголоса. В обширных залах штофные обои на стенах полиняли и выцвели. Хрустальные подвески на люстрах, прозрачно-темные, как дымчатые топазы, тускло мерцали, дрожа и звеня, когда кто-нибудь шел по комнате. Огромные голландские печи из голубых изразцов были жарко натоплены. Во всех покоях накурено смолкою и тишина мертвая.
Бабушкина комната – угольная. Стены боскетом расписаны. Здесь, как в лавке старьевщика, шифоньерки, этажерки, стеклянные шкапчики с фарфоровыми куколками, круглые столики с медной решеткой, пузатые комоды с китайской инкрустацией – все напоминало о веке ином. На окнах – низенькие ширмочки с малиновыми стеклами, кидавшими на все предметы и лица нежный отсвет розовый, похожий на вечный закат. У одного из окон – клетка и подставка с шестом для белого, с желтым хохолком попугая, Потапа Потапыча.
Бабушка была маленькая, сухенькая старушка с очень бледным, точно восковым, лицом, как у покойника: казалось, пролежала сутки в гробу, встала и опять начала жить. Всегда в туалете – шелковом платье стального цвета, с рюшевым бароком около шеи, в белом тюлевом, с широким рюшем, чепце, в глянцевитых мелких фальшивых букольках – en grappes de raisin;[11] меховая кацавейка на плечах: старушка вечно зябла. За полчаса перед тем как ей выйти из спальни особая немка-приживалка, жирная, как купеческая лошадь, садилась в кресло и нагревала место.
Бабушка в кресле сидела прямо, несмотря на множество подушечек, шерстяных, шелковых и бисерных. Рядом с нею, на столике, стояла коробочка с пудрою: старушка часто пудрилась и потом утиралась платочком или шкуркою из пузыря, домодельного. На круглой скамеечке, у ног ее, лежала, свернувшись, белая болонка Фиделька, презлая.
– Скажи, зачем ты так трясешь подносом? – спрашивала бабушка, когда поутру девка Марфушка подавала ей чай.
– Фиделька больно ноги кусает.
– Должно ли из-за этого трясти подносом? – удивлялась Наталья Кирилловна.
Была очень мнительна; при малейшем нездоровье ложилась в постель и привязывала к «пульсам» уксусные тряпочки. Не любила слышать о покойниках. Старая приживалка Захаровна прослышит, бывало, что кто-нибудь умер, придет к ней в спальню и шепнет на ухо.
– Молчи, что я знаю. Ты мне не говорила, слышишь! – строго скажет ей бабушка.
Однажды в мезонине, почти над самой старушкиной спальней, умерла другая приживалка – в доме их было множество.
– Умерла, – шепнула Захаровна бабушке, указывая пальцем наверх.
– Ну и молчи.
Вынесли покойницу украдкою, схоронили, а бабушка так и не помянула о ней, как будто никогда ее на свете не было.
Много видела на своем веку, а потому всего боялась и вздыхала о том, «как легко фортуна изменяется».
– Вся жизнь наша не что иное, как газардная игра!
После двух легких ударов часто впадала в полубеспамятство; тогда целыми днями сидела молча, не двигаясь, и тусклым взором следила, как попугай качается на колышке, пронзительно выкрикивая: «Потап Потапыч Потапов!» А потом вдруг оживлялась и вспоминала молодость, когда была фрейлиной при дворе Екатерины. Сообщала таинственным шепотом, как о последней новости, что князь Платон Зубов, «ce charmant vaurien»,[12] сумел убедить ее величество в своем «приятном умоначертании». Вспоминала с умилением о любезности императрицы – матушки.
– Бывало, заметит, что солнце кого беспокоит, – тотчас к окну подойдет и шторку опустит собственными ручками. Но зато и спуску не давала продерзостным: обер-секретарю Тайной экспедиции Шешковскому велено было взять из маскарада не в меру болтливую генеральшу Кожину, слегка на теле наказать и обратно туда же доставить со всякою благопристойностью.
Любила также рассказывать о господине Фонтенеле, с которым видалась в Париже еще до революции.
– Настоящий был филозоф: никогда не возвышал голоса, не сердился, не плакал и не смеялся. «Господин Фонтенель, говорю, вы никогда не смеялись?» – «Нет, говорит, я никогда не делал: „ха! ха! ха!“» Никакого чувства не знал, никого не любил – люди ему только нравились. «Господин Фонтенель, говорю, вы меня уважаете?» – «Je vous trouve fort aimable, madame».[13] – «A если бы вам сказали, что я кого-нибудь убила, вы бы поверили?» – «Я бы подождал, сударыня», – говорит, а сам усмехается. Крепкий был старичок, больше лет ста прожил. Умница. Нынче таких не сыскать!
А люди нового века, с их куцыми мыслями, куцыми фраками, не нравились бабушке.
– Все вы, как посмотрю я на вас, какие-то общипанные, как будто сейчас вышли из бани. Модники, мышиные жеребчики!
Не могла привыкнуть к новым широким панталонам навыпуск, которые заменили старинные короткие штаны с чулками и башмаками.
– От санкюлотов пошла эта мода, от срамников, голоштанников, прости господи! – ворчала она и вспоминала, как на одном московском балу хозяин подбежал к щеголю, который явился первый в длинных штанах: «Что ты, говорит, за шутку выдумал? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты нарядился матросом!»
– С двенадцатого года Москва деженерировала, – вздыхала Наталья Кирилловна, когда Нина Львовна рассказывала ей московские новости. – Поднял бы наших стариков, дал бы им взглянуть на Москву, – ахнули бы, на что она стала похожа. Ни сосьете, ни вельможества. Да, обмелела Москва! Так все идет, что час от часу хуже. И глаза уж не глядели бы, и не слушала бы про то, что делается!