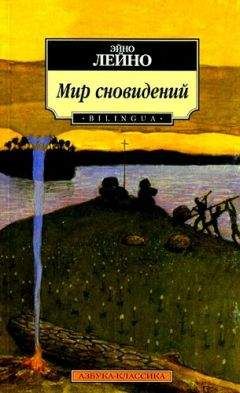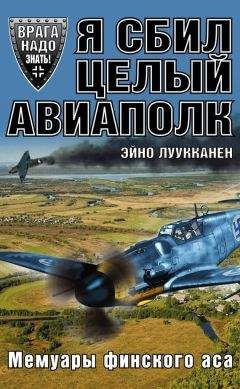PIMEÄN PETKKO
Tuo tuima Pimeän peikko
tunsi auringon tulevan
Lapin tunturin laelle
keralla kevähän uuden.
Mietti murha mielessänsä:
«Minä auringon tapankin,
sunnannen valonkin suuren
yön pyhän nimessä yhden,
sydän-yöni synkeinunän.»
Peikot päivyttä vihaavat.
Tuli tunturin laelle
revontulten roihutessa,
näki taivahan palavan,
hyrähti hymyhyn huuli:
«On iloni isommat, onpa
riemuni remahtavammat
kuin juhlat valon jumalten,
pidot, laulut päivän lasten.»
Kimmelsi kitehet yössä
kuin kirot sydämen synkän,
meri vankui valkeana
niinkuin paatunut ajatus,
kohosi luminen korpi
maasta kuolon-mahtavasta
kuin uhma urohon hyisen,
viha välkkyvän teräksen.
Tuo nauroi Pimeän peikko:
«Päivä, päätäsi kohota,
saät täältä sataisen surman,
tunnan tutkaimet tuhannet!»
Näkyi kaukainen kajastus.
Tuo tunsi Pimeän peikko
sydämensä sylkähtävän,
tarttui päähänsä rajusti:
«Minne mieleni pakenet?»
Seijastuivat selvemmiksi
taivon rannat, korven kannat,
heijastuivat heljemmiksi
synkeät sydänsopukat,
suihkuvat tuliset nuolet
päivän päästä nousevasta,
sattui vastahan vasamat
yöstä mielen vaJkenevan;
sini koitti päivän koitto
kuni peikon sielun koitto
sini soi kevähän kannel
kuni peikon hengen kannel,
yhtyi toinen toisiliinsa,
säihkyi yhtehen sätehet,
sointui yhtehen sävelet,
nousi kohti korkeutta
puhki taivahan yheksän,
yli kaaren kymmenennen,
kunnes saapuikin kotihin,
korkeimman Isan ilohon,
Elon lempeimmän lepohon,
Rakkauden rajattomimman.
Kuului kuoro yon povesta,
riemu päivän rintaluista:
«Pahin on parahan synty,
rumin kauneimman kajastus,
alin vain ylimmän aste.»
Mutta ihmiset sanoivat:
«Tuo on peikko mielipuoli,
vanki valkeuden iaisen,
itse poikia pimeyden,
päivän virttä vieritavi!»
Eikä hän ikina saanut
enäa jäistä järkeänsä,
kuoli pois keralla talven,
syöksyi veljenä vihurin
sydämehen päivän pätsin,
leimuhun Jumalan lemmen.
Из сборника «Бивачные костры» / Leirivalkeat
(1917)
День уходит за чащи,
воду озолотив,
тростник позолотой блещет,
и остров, и тихий залив.
Ах, сердце тревожное, если
здесь найти бы покой —
не знать бы воспоминаний,
надежды не знать никакой!
А это закатное злато
в душевных скрыть тайниках
и стать самому себе чуждым,
как блеск воды в тростниках.
Taa korpien päivä painuu,
vesi kultana kimmeltää,
mut kultaisempina kaislat
ja salmet ja saaren pää.
Ah, rinta rauhaton, jospa
levon täältä se löytää vois
ja muistoistaan jos pääsis
eik’ ollut toivoja ois!
Tuon auringon kullan kenpä
vois kätkeä sydämeen
ja itselleen olla outo
kuin kaislat ja välke veen!
Из сборника «Печаль Шемейки» / Shemeikan murhe
(1924)
Я тоскую, я жить без любви не могу
моя мать такой нежной была.
И к любви я тянусь, как дитя к очагу,
я так жажду любви и тепла!
Я продрог на холодном чужом берегу,
куда буря меня занесла.
Только мрачные псалмы рождались в мозгу,
когда в горе душа замерла.
Я июля звонкого светлый сын,
мне лишь ясное нёбо — отрада.
Я не вынесу злобой сведенных личин,
ледяного недоброго взгляда.
Я люблю напевы зеленых долин,
а не горного ветра рулады.
En ilman ma lempeä elää voi,
mun äitini oli niin hellä.
Minä halajan lempeä, lämpöä, oi,
ja lemmessä lämmitellä.
Minut vihurit vieraille rannoille toi.
Vilu täällä on väijötellä.
Vain virret kolkot mun korvaani soi,
suru kun on sydämellä.
Olen lapsi mä heleän heinäkuun,
minä kaipaan kaunista säätä.
En kestä ma ivaa ilkkuvan suun,
en karsahan katseen jäätä.
Minä rakastan laulua laakson puun,
en tunturin tuulispäätä.
КОСОЛАПЫЙ
Рождественская история для старых и малых
ЮНЫЙ МИШУТКА
Как-то раз на исходе зимы господа с железнодорожной станции отправились на медвежью охоту.
Охотники подобрались самые разные, и с рогатинами, и с ружьями, был даже некий господин в очках из Хельсинки — поскольку кроме добычи медведя предполагалось заснять серию кадров для «Живых картин»[11].
Проводниками были местные лыжники, которые загодя берлогу топтыгина обложили и потом за много сотен марок господам продали. Но, хотя вознаграждение уже было им обеспечено, они в своем воодушевлении отнюдь не отставали от остальной компании.
Ехали на десяти упряжках, сперва широкими проселочными дорогами, потом все сужающимися лесными тропами. К концу пришлось остановить лошадей.
Проворно встали на лыжи и подошли к медвежьей берлоге.
Вон она, на склоне под выступом скалы, в самом что ни на есть густом буреломе.
Окладчики указывали на нее лыжными палками. Спустили собак, выстроились полукругом перед входом в берлогу.
Улюлюкают, рогатинами тычут — не выходит топтыгин.
Собираются уже костер под берлогой раскладывать. Но тут вдруг снег вздымается столбом в воздух — и вот он, царь леса, перед ними.
Глухо взревев, встает на задние лапы, бросается на лес рогатин и ружей. Падает. Киношник захлопывает свой аппарат, и дело сделано.
Но еще не совсем. Окладчики, по-прежнему воодушевленные больше всех, уверяют, что добыча на этом не закончилась.
— Там еще, там еще что-то есть! — твердят они, указывая на вход в берлогу.
Поскольку господа вроде бы не верят, один окладчик решительно скидывает тулуп на снег и ползет внутрь берлоги с ножом в одной руке и электрическим фонариком в другой.
Остальные напряженно ждут.
— «Хлююупиуп!» — слышится вдруг взвизг из берлоги.
— Ну что? Ну что? — вздрогнув от неожиданности, кричат охотники. — Есть там кто-нибудь?
— Медвежонок тут. Зыркает из угла, точно цаца какая.
— Живым возьмешь или подсобить?
— Да живьем возьмем.
Взяли его живым. Триумфальным шествием возвращались домой — старый медведь на носилках, маленький — в санях под пологом.
Вечером устроили торжественные поминки по старому лесному царю. И зашел у господ за столом разговор о судьбе юного Мишутки, который для поднятия праздничного настроения лежал в углу залы в большой корзине, посаженный на собачью цепь с ошейником.
— Мне там, в Хельсинки, с ним делать нечего, — объяснял очкастый. — Можете держать его здесь, в глуши, в свое удовольствие.
— Наверное, с ним хлопот не оберешься? — осторожно спросил начальник станции, высокий, худой, строгого вида господин.
Но младшие помощники, у которых Мишутка уже успел попасть в любимцы, уверяли, что от Мишутки не будет в доме никакой помехи и что они с удовольствием поселят его на своей половине.
— Ну тогда ладно! — решил начальник станции. — Пускай пока остается у нас. Ведь его можно и потом пристрелить, если он начнет… того… слишком буйствовать.
Мишутка остался в доме и понемногу привык к людям.
Вначале в его мозгу было не так уж много четких мыслей. Только смутные воспоминания о каком-то темном и мягком месте, откуда его внезапно выдернули в слепящую белизну.
Прежде всего ему хотелось есть и пить. Но еще много дней он есть не умел, хотя перед ним и клали разные лакомства. Молоко и мед он все-таки попробовал.
— Да он еще станет настоящим косолапым! — смеялся телеграфист, молодой веснушчатый студент, похлопывая медвежонка по спине. — Ему только сладенькое подавай!
— Из Мишутки вырастет мужчина, — подхватил бухгалтер, пухлый красноносый господин, посмеиваясь над ним. — Скоро он и выпивать начнет!
— А что, станет он водку пить?
Этот вопрос разрешили быстро. Залили Ми-шутке в глотку рюмку, и он сразу же после того, как, кривясь, проглотил, высунул язык и попросил еще.
— Гляди-ка, постреленок! — смеялись господа. — Ну, на этот раз хватит тебе.
Мишутка пробыл всю весну и лето у станционных господ.
Скоро для него не требовалось больше ни цепочек, ни ошейников. Он научился понимать свое имя и приходить на зов. Он научился забираться на колени и давать играть с собой. Знал, что за это всегда получит молока, меду или сахару.
Водки ему перепадало лишь изредка, когда у них бывали в гостях господа из деревни. Но тогда ему приходилось показывать свои лучшие штуки.
Тогда он танцевал1 Становился на задние лапы и уморительно кувыркался, а все гости просто помирали со смеху.
Отчасти он делал это нарочно, заметив, что веселит гостей, и зная, что этим заработает новые лакомства. Отчасти же крепкий напиток действовал на него таким образом, что он ощущал внезапный прилив радости, а лапы сами собой отрывались от земли.