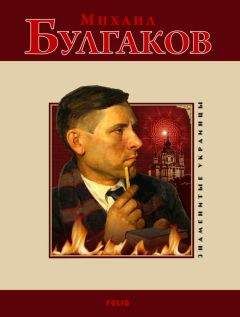— На Учебной сцене, конечно, играть будут? — допытывался Ликоспастов.
— Не знаю, — ответил я, — говорят, что на Главной.
Опять побледнел Ликоспастов и тоскливо глянул в сияющее небо.
— Ну что ж, — сказал он хрипло, — давай Бог. Давай, давай. Может быть, тут тебя постигнет удача. Не вышло с романом, кто знает, может быть, с пьесой выйдет. Только ты не загордись. Помни: нет ничего хуже, чем друзей забывать!
Крупп глядел на меня и почему-то становился все задумчивее; причем я заметил, что он внимательнее всего изучает мои волосы и нос.
Надо было расставаться. Это было тягостно. Егор, пожимая мне руку, осведомился, прочел ли я его книгу. Я похолодел от страху и сказал, что не читал. Тут побледнел Егор.
— Где уж ему читать, — заговорил Ликоспастов, — у него времени нету современную литературу читать... Ну, шучу, шучу...
— Вы прочтите, — веско сказал Егор, — хорошая книжица получилась.
Я вошел в подъезд бельэтажа. Окно, выходящее на улицу, было открыто. Человек с зелеными петлицами протирал его тряпкой. Головы литераторов проплыли за мутным стеклом, донесся голос Ликоспастова:
— Бьешься... бьешься, как рыба об лед... Обидно!
Афиша все перевернула у меня в голове, и я чувствовал только одно, что пьеса моя, по существу дела, чрезвычайно, между нами говоря, плоха и что что-то надо бы предпринять, но что — неизвестно.
...И вот у лестницы, ведущей в бельэтаж, передо мною предстал коренастый блондин с решительным лицом и встревоженными глазами. Блондин держал пухлый портфель.
— Товарищ Максудов? — спросил блондин.
— Да, я...
— Ищу вас по всему театру, — заговорил новый знакомый, — позвольте представиться — режиссер Фома Стриж[81]. Ну, все в порядочке. Не волнуйтесь и не беспокойтесь, пьеса ваша в хороших руках. Договор подписали?
— Да.
— Теперь вы наш, — решительно продолжал Стриж. Глаза его сверкали, — вам бы вот что сделать, заключить бы с нами договор на всю вашу грядущую продукцию! На всю жизнь! Чтобы вся она шла к нам. Ежели желаете, мы это сейчас же сделаем. Плюнуть раз! — И Стриж плюнул в плевательницу. — Нуте-с, ставить пьесу буду я. Мы ее в два месяца обломаем. Пятнадцатого декабря покажем генеральную. Шиллер нас не задержит. С Шиллером дело гладкое[82]...
— Виноват, — сказал я робко, — а мне говорили, что Евлампия Петровна будет ставить...
Стриж изменился в лице.
— Какая такая Евлампия Петровна? — сурово спросил он меня. — Никаких Евлампий. — Голос его стал металлическим. — Евлампия не имеет сюда отношения, она с Ильчиным «На дворе во флигеле» будет ставить. У меня твердая договоренность с Иваном Васильевичем! А ежели кто подкоп поведет, то я в Индию напишу! Заказным, ежели уж на то пошло, — угрожающе закричал Фома Стриж, почему-то впадая в беспокойство. — Давайте сюда экземпляр, — скомандовал он мне, протягивая руку.
Я объяснил, что экземпляр еще не переписан.
— Об чем же они думали? — возмущенно оглядываясь, вскричал Стриж. — Вы у Поликсены Торопецкой в предбаннике были?
Я ничего не понял и только дико глядел на Стрижа.
— Не были? Сегодня она выходная. Завтра же захватите экземпляр, идите к ней, моим именем действуйте! Смело!
Тут очень воспитанный, картавый изящный человек[83] появился рядом и сказал вежливо, но настойчиво:
— В репетиционный зал прошу, Фома Сергеевич! Начинаем.
И Фома перехватил портфель под мышку и скрылся, крикнув на прощание мне:
— Завтра же в предбанник! Моим именем!
А я остался стоять и долго стоял неподвижно.
Глава X
СЦЕНЫ В ПРЕДБАННИКЕ
Осенило! Осенило! В пьесе моей было тринадцать картин. Сидя у себя в комнатушке, я держал перед собою старенькие серебряные часы и вслух сам себе читал пьесу, очевидно, очень изумляя соседа за стенкой.
По прочтении каждой картины я отмечал на бумажке. Когда дочитал, вышло, что чтение занимает три часа. Тут я сообразил, что во время спектакля бывают антракты, во время которых публика уходит в буфет. Прибавив время на антракты, я понял, что пьесу мою в один вечер сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, привели к тому, что я вычеркнул одну картину. Это сократило спектакль на двадцать минут, ко положения не спасло. Я вспомнил, что помимо антрактов бывают и паузы. Так, например, стоит актриса и, плача, поправляет в вазе букет. Говорить она ничего не говорит, а время-то уходит. Стало быть, бормотать текст у себя дома — одно, а произносить его со сцены — совершенно иное дело.
Надо было еще что-то выбрасывать из пьесы, а что — неизвестно. Все мне казалось важным, а, кроме того, стоило наметить что-нибудь к изгнанию, как все с трудом построенное здание начинало сыпаться, и мне снилось, что падают карнизы и обваливаются балконы, и были эти сны вещие.
Тогда я изгнал одно действующее лицо вон, отчего одна картина как-то скособочилась, потом совсем вылетела, и стало одиннадцать картин.
Дальше, как я ни ломал голову, как ни курил, ничего сократить не мог. У меня каждый день болел левый висок. Решив, что дальше ничего не выйдет, решил дело предоставить его естественному течению.
И тогда я отправился к Поликсене Торопецкой[84].
«Нет, без Бомбардова мне не обойтись...» — думалось мне.
И Бомбардов весьма помог мне. Он объяснил, что и эта уже вторично попадающаяся Индия, и предбанник — это вовсе не бред и не послышалось мне. Теперь окончательно выяснилось, что во главе Независимого Театра стояли двое директоров: Иван, как я уже знал, Васильевич и Аристарх Платонович...
— Скажите, кстати, почему в кабинете, где я подписывал договор, только один портрет — Ивана Васильевича?
Тут Бомбардов, обычно очень бойкий, замялся:
— Почему?.. Внизу?.. Гм... гм... нет... Аристарх Платонович... он., там... его портрет наверху...
Я понял, что Бомбардов еще не привык ко мне, стесняется меня. Это было ясно по этому невразумительному ответу. И я не стал расспрашивать из деликатности... «Этот мир чарует, но он полон загадок...» — думал я.
Индия? Это очень просто. Аристарх Платонович в настоящее время находился в Индии, вот Фома и собирался ему писать заказным. Что касается предбанника, то это актерская шутка. Так они прозвали (и это привилось) комнату перед верхним директорским кабинетом, в которой работала Поликсена Васильевна Торопецкая. Она — секретарь Аристарха Платоновича...
— А Августа Авдеевна?
— Ну, натурально, Ивана Васильевича.
— Ага, ага...
— Ага-то оно ага, — сказал, задумчиво поглядывая на меня, Бомбардов, — но вы, я вам это очень советую, постарайтесь произвести на нее хорошее впечатление.
— Да я не умею!
— Нет, уж вы постарайтесь!
Держа свернутый в трубку манускрипт, я поднялся в верхний отдел театра и дошел до того места, где, согласно указаниям, помещался предбанник.
Перед предбанником были какие-то сени с диваном; тут я остановился, поволновался, поправил галстух, размышляя о том, как мне произвести на Поликсену Торопецкую хорошее впечатление. И тут же мне показалось, что из предбанника слышатся рыдания. «Это мне показалось...» — подумал я и вошел в предбанник, причем сразу выяснилось, что мне ничуть ке показалось. Я догадался, что дама с великолепным цветом лица и в алом джемпере за желтой конторкой и есть Поликсена Торопецкая, и рыдала именно она.
Ошеломленный и незамеченный, я остановился в дверях.
Слезы текли по щекам Торопецкой, в одной руке она комкала платок, другой стучала по конторке. Рябой, плотно сколоченный человек с зелеными петлицами, с блуждающими от ужаса и горя глазами, стоял перед конторкой, тыча руками в воздух.
— Поликсена Васильевна! — диким от отчаяния голосом восклицал человек. — Поликсена Васильевна! Не подписали еще! Завтра подпишут!
— Это подло! — вскричала Поликсена Торопецкая. — Вы поступили подло, Демьян Кузьмич[85]! Подло!
— Поликсена Васильевна!
— Это нижние подвели интригу под Аристарха Платоновича, пользуясь тем, что он в Индии, а вы помогали им!
— Поликсена Васильевна! Матушка! — закричал страшным голосом человек. — Что вы говорите! Чтобы я под благодетеля своего...
— Ничего не хочу слушать, — закричала Торопецкая, — все ложь, презренная ложь! Вас подкупили!
Услыхав это, Демьян Кузьмич крикнул:
— Поли... Поликсена, — и вдруг зарыдал сам страшным, глухим, лающим басом.
А Поликсена взмахнула рукой, чтобы треснуть по конторке, треснула и всадила себе в ладонь кончик пера, торчащего из вазочки. Тут Поликсена взвизгнула тихо, выскочила из-за конторки, повалилась в кресло и засучила ножками, обутыми в заграничные туфли со стеклянными бриллиантами на пряжках.
Демьян Кузьмич даже не вскрикнул, а как-то взвыл утробно:
— Батюшки! Доктора! — и кинулся вон, а за ним кинулся и я в сени.