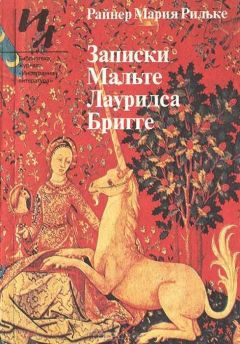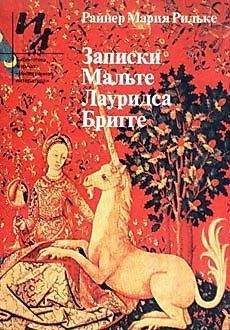Кроме этих картин, мои самые сильные и плодотворные впечатления связаны с «Концертом» Джорджоне[41], этим высочайшим апофеозом тихой беседы трех людей, столь совершенным и по сюжету, и по манере, и по стилю, и по настроению, что, скорее всего, его никогда — даже если нам суждено достичь и большего проникновения в суть этой священной тишины — превзойти не удастся. Покой — и все же деятельность (в душевном смысле), единая группа — и все же строгая раздельность трех личностей, рассказ — и все же чисто живописная идея: таков этот «Концерт». А словно благодаря единой тени вечереющего дня общность и духовная сопринадлежность троих людей едва уловимо выражены тем, что все они погружены в единый звучащий тон — трое одиноких, неравно зрелых на различных путях. Играющий на лютне столь сноровист, что ему, уже доигравшему до конца, приходится оглянуться на отставших друзей, а третий сосредоточенно-напряжен. И все же чувствуешь (вот и втайне предвещанный восторг), что силы их равны и что все они встретятся где-то — в последнем и освободительном для каждого блаженстве.
В портретах музыкантов с картины Лоренцо Лотто, прозванной современниками «Три возраста», хотя бы только сходство с этим шедевром видели, должно быть, лишь очень поверхностные наблюдатели. А другие картины Джорджоне (не говоря о прекрасных мужских портретах) навряд ли принадлежат его кисти или относятся к более раннему времени. Я бы предпочел видеть восхитительную «Santa conversazione»[42] (в Уффици ее автором назван Беллини) украшенной его именем. Кому бы она ни принадлежала, это — столь великолепно исповедальное произведение, что дает сбыться в себе одной личности, не нуждаясь в какой-либо другой. Задний план: гористая местность (terra ferma)[43], мирно оживляемая отшельниками и наделенная признаками земледелия и скотоводства. Маленький, странно своенравного вида теремок замыкает задний план по ту сторону темно-зеленых вод, по сю сторону которых изображено место действия самой картины — широкая, нарядная мраморная терраса. Ничем не украшенная ограда отделяет террасу от воды и охватывает ее с боков, слева образуя возвышение для трона, на котором горестно царит тихая, страдающая, в черно-белом одеянии Мадонна. Какая-то святая в молчаливом ожидании стоит подле нее, и в ее изысканной фигуре отзывается вся праздничная возвышенность, в разных вариантах выражаемая и умножаемая другими. За оградой, в глубине картины, стоит святой с бдительно-праздным мечом, а рядом с ним Петр — в полном соответствии со своей созерцательной задумчивостью — обеими руками облокотился на каменные перила, перед которыми, далеко справа, некий отшельник вместе с величественно-безмятежным св. Себастьяном, не уделяющим внимания стрелам в своих ранах, нерешительно выступают навстречу одиноко стоящей княгине. В этих двух фигурах покой поднимается до какого-то тихого ритма, чтобы прямо в центре переднего плана перерасти в веселое движение, в игру нескольких нагих младенцев, с расточительной непринужденностью обвивающих своим искренним весельем округло подстриженное лавровое деревце.
А рядом висит картина Витторе Карпаччо, который запросто может сойти за настоящего Данте Г. Россетти, столь волшебны и таинственны его линии и краски.
Но что такое эта темная и все-таки откровенная сказочность венецианцев в сравнении с сокровенными таинствами, своими подлинными темами представленными на картинах Боттичелли!
Нет, таинственное не укрыто здесь в глубокой, тяжкой тьме. В свете и великолепии открывало оно себя некой душе. Но душа, в которой еще трепещет блаженство этого совлечения покровов, слишком уж беспомощна и проста, чтобы как-то отозваться на глубину такой исповеди. Она ощущает в себе неисчислимые сокровища — но, желая поделиться ими, не умеет достать из своих закромов ни грана. Она остается неимущей, ибо никого не может сделать совладельцем своих сокровищ, и одинокой, ибо ей не удается навести мосты от себя к другим. Так эти души и бредут по миру — безучастно, с немыми звездами внутри, не умея поведать о них никому. Отсюда их печаль. И страх — утратить доверие к собственным своим звездам, если им вечно придется верить в их блеск и блаженство в таком одиночестве. Вот откуда их страх. Но при этом они пронизаны лучами своей глубоко упрятанной, одинокой просветленности, с которой они могли бы достичь блаженства, если б у них было больше отваги и меньше жалости.
Отсюда — робость его Венеры, боязливость его Весны, усталая кротость его мадонн.
Эти мадонны — все они словно чувствуют вину за то, что их миновали раны. Они не могут забыть, что родили без мук и зачали без блаженства. И они стыдятся, что были не в силах, как остальные, поднять к своей груди смеющееся чудо, что стали матерями без мужества матерей. Что младенец сам собой оказался в их руках, в этих тоскующих девичьих руках, которым он достался даром и будет грузом. Все, что они несут, — это лишь бремя предчувствия: дитя будет страдать, ибо не страдали они; будет истекать кровью, ибо ни капли ее не потеряли они; и умрет, ибо они остались живы. Этот упрек помрачает весь свет их небес, и свечи горят в нем несмело и тускло. — Есть мгновения, когда великолепие их долгих дней на троне налагает улыбку на их губы. Тогда ей странно соответствуют их заплаканные глаза. Но как только минует краткое счастье забвения боли, они пугаются непривычной зрелости своей Весны и во всей безнадежности своих небес тоскуют по жаркой радости Лета с его земной лаской.
И как истомленная женщина оплакивает чудо, что так и не произошло, и изнывает от бессилия дать жизнь Лету, чьи ростки, она чувствует, шевелятся в ее созревшем теле, так Венера боится, что ей никогда не удастся раздарить свою красоту жаждущим, и так же трепещет Весна, ибо вынуждена молчать о своем потаенном блеске и о своей сокровенной святости.
И столь силен разлад во всех эти творениях, что его чувствуешь даже в той манере, в какой они рассказаны, украшены и преподнесены: видишь мучительно дрожащие руки художника, жаждущие до конца поднять из недр души золотое бремя того, что уже свершилось в ее глубинах, но все вновь изнемогающие от столкновения с непроходимой границей и наконец в отчаянии теребящие утаенное сокровище. Тогда их сводит мощная судорога, и линии искажаются до горечи, до ожесточения, до уродства. И тут Савонарола выпускает из них на волю и судороги, и борьбу. Он подымает их из потаенных глубин в неверный церковный свет отречения. И в нем они ощупью, бесцельно, словно усмиренные безумцы, шарят по краям былых воспоминаний, тупо и смиренно воспроизводя мертвую тоску. И это — их конец. Так умер тот, кто тосковал по плоду, и его силы хватило лишь на то, чтобы добраться до границ Весны, туда, где она становится гнетущей от сладости, низкой от спелости и бедной для того, кто в нее войдет…
И если я не ошибаюсь, если мы (или те, что придут после нас) должны стать теми, которые, кроме тоски по Лету, будут обладать еще и силами для Лета (или добудут их), то неудивительно, что мы не только лучше понимаем его[44], воздвигаем ему памятники и плетем венки для его бессмертия, но и любим его, как дорогого нам усопшего: он пал, ибо столь задолго до нас хотел одержать ту победу, что для нас самих еще остается мечтой, целью и тоскою дней нашего творчества.
О, как понятна боль тех, кто пришел раньше срока: они что дети, которые забрели в комнату с елкой — а свечи еще не зажглись, и все вещи еще не замерцали. Им бы отпрянуть от порога — и постоять в этом еще привычном для них мраке, покуда не приноровятся их бедные глаза.
Фра Анджелико[45] — крайняя противоположность Сандро Боттичелли. Он робок, как самое начало весны, и так же свято верует, как она. Писал ли он мадонн или выбирал для своих картин каких-нибудь легендарных святых («Косма и Дамиан» в Академии), он всегда выражал в них трепетную исповедь своего личного смирения. И тем не менее он — человек поздней эпохи, пользующийся жестами людей из эпох самых ранних, со свежестью их чувств и с их безоглядной увлеченностью. Лишь окруженное поясом неприметно-охранительных монастырских стен Сан Марко, смогло это искусство взойти, расцвести и увянуть в столь всепрощающем целомудрии, не оставив по себе ничего, кроме смутного воспоминания о майском утре, в сердцах немногих мастеров, что, взалкав жизни, переросли это чуждое для них блаженство. И странно, что самым вольным и веселым глашатаем земной радости было суждено стать именно Беноццо Гоццоли, безбородым учеником ходившему как-никак посреди аскетичных святых Джованни Анджелико. На Кампо Санто в Пизе он оставил блистательные свидетельства своего взгляда на жизнь, своего мастерства и своего внутреннего богатства; почти вся продольная стена украшена его фресками, и поразительно, насколько удачно он сообщил и великолепие, и человечность скупым библейским сюжетам, с немыслимой беззаботностью покрыв стены церковного кладбища шумными триумфами жизни, словно желая отравить и сделать в тягость господство той, что безраздельно здесь царит. Даже старому мастеру «Триумфа Смерти» и «Страшного суда» (у Вазари это Буффальмако), чьи непрестанные увещевания ему приходилось по-соседски видеть, приступая к работе, ни на каплю не удалось изменить его простодушную веру. Он приходил — и изображал жизнь, и наслаждение, и еще весну, вписывая их в высокие готические аркады, и, как добрый товарищ жизни, взращивал свои веселые розы прямо посреди двора Кампо Санто. — Жизнь и сегодня, кажется, победно царствует здесь благодаря этому союзу. Тут нет ничего от мрачной суровости монастырского двора — ни в этих отважно выведенных сводах галереи, ни в любующихся собой окнах с их колоннами, что никак не желают быть исчерпанными в неожиданно открывающихся сквозных перспективах; да и сама картина триумфа смерти, кажется, тут лишь для того, чтобы подчеркнуть блаженство деятельной жизни отшельника и счастливо завершенной гармонии рая. Эта фреска, которой мы обязаны, по-видимому, Орканье[46], подобна запечатленной красками песне любви посреди леденящих кровь сцен, давящих на душу, будто кошмары. — Есть во всех этих фигурах что-то от бездеятельной, праздной торжественности отдыха после дальней дороги. Все они словно застыли в безмолвной благодарности за это совместное одиночество, словно отяжелев от сладкой истомы, таинственно проступающей в благородных складках их светлых одеяний. Тут еще не угощают, или танцуют, или рассказывают сказки, или поют — самозабвенно, как у более поздних художников: тут просто справляют праздник, радостно сознавая свои дремлющие силы или мечтательную тоску. И что-то от этого простодушного обыкновения еще живо в народе — в этом я мог убедиться своими глазами намедни, в воскресенье. Я видел, как матроны, старики и дети выставляли на солнце из потемок будней всю свою жизнь со всеми ее мелкими радостями и зачахшими надеждами — так, словно собирались нести ее в церковь. На стульях, стульчиках и скамейках все они усаживались перед дверьми, смотря по возрасту и характеру — молчаливые или болтливые, погруженные в раздумье или в созерцание, по всем улочкам заслоняя своей веселостью невыразительные фасады бедных домов. Хорошо в эту пору прокатиться мимо них по грохочущим камням мостовой; кучер крепко щелкает кнутом и со всей возможной важностью пускает лошадку бешеной трусцой. А они поднимают глаза, глядя любопытно или равнодушно, раздраженно или приветливо. И тогда словно каким-то волшебством хижины преображаются, и проезжаешь вплотную мимо полностью обнаженных судеб, с готовностью выставляющих себя на твое обозрение. А под вечер можно застать в лесу девушек — темновласых и белокурых — и видеть, как они обнявшись идут, редко роняя слова, длинными вереницами робко шагая меж прямых стволов пиний; лишь иногда кто-то из них медлительно заводит песню, тихо, словно из глубины сладостного воспоминания, а две или три подруги подхватывают погромче, словно для поддержки. Они проходят несколько шагов — и песня смолкает, погружаясь в их движения, из которых она, казалось, и выплыла раньше, а они бредут все глубже в лес. Это и есть воскресенье.