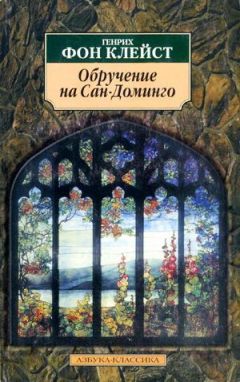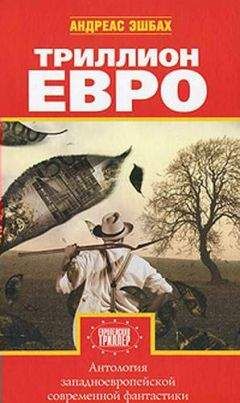— Бей кровопийцу, вали его наземь!
Народ, негодуя на камергера, мигом оттеснил стражников, Химбольдт же толчком в спину повалил его, сорвал с него плащ, воротник и шлем, вышиб у него из рук шпагу и могучим броском далеко ее зашвырнул. Юнкер Венцель, выбравшись из сумятицы, призывал рыцарей на помощь своему двоюродному брату. Но те не успели и шага ступить, как народ дружным натиском отбросил их назад, и камергер, разбивший себе голову при падении, остался во власти разъяренной толпы. От неминуемой гибели его спасло случайное появление отряда конных ландскнехтов, к которым начальник стражников воззвал о помощи. Когда последний, разогнав наконец толпу, приказал рейтарам схватить неистового мастера и отвести его в тюрьму, двое приятелей подбежали к злополучному камергеру, обливавшемуся кровью, и повели его домой. Таков был печальный исход честной и благородно задуманной попытки загладить несправедливость, причиненную конноторговцу. Деббельнский живодер, сделав свое дело, не пожелал больше оставаться в городе и, как только народ разбрелся по домам, привязал лошадей к фонарному столбу, где они и простояли весь день на потеху уличным мальчишкам и всякому сброду, некормленые и неухоженные. Поздно вечером полиции пришлось заняться ими и вызвать на место происшествия дрезденского живодера, чтобы он в ожидании дальнейших распоряжений свел их на пригородную живодерню.
Случившееся, как ни мало был в нем повинен лошадиный барышник Кольхаас, пробудило в людях, даже самых мирных и благодушных, чувства, весьма неблагоприятные для исхода его тяжбы. Отношения, возникшие между ним и государством, были единодушно признаны нетерпимыми, — в частных домах, равно как и в общественных местах, стали поговаривать, что лучше уж не по чести обойтись с ним и снова прекратить дело, нежели справедливо решить таковое и тем самым признать, что Кольхаас насилием и грабежами добился удовлетворения неистовой своей строптивости. На беду горемыки Кольхааса, вышло так, что гроссканцлер из повышенной щепетильности и порожденной ею ненависти к дому фон Тронка невольно укрепил, более того — распространил подобные настроения. В высшей степени невероятным казалось, чтобы лошади, порученные заботам дрезденского живодера, когда-нибудь обрели тот вид, в котором их вывели из конюшни Кольхаасенбрюкке; но если даже благодаря умелому и долговременному уходу это бы и оказалось возможным, то позор, ввиду вышеупомянутых обстоятельств ложившийся на весь именитый и едва ли не знатнейший в Саксонии род фон Тронка, был так велик, что денежное возмещение за коней всем стало казаться наиболее приемлемым и желательным выходом.
Посему, когда несколько дней спустя президент граф Кальхейм направил гроссканцлеру от имени больного камергера письмо с таким предложением, тот, в свою очередь, написал Кольхаасу, советуя не отказываться от возмещения стоимости вороных, буде ему это предложат, однако в кратких и не слишком любезных выражениях попросил президента впредь избавить его от частных поручений по означенному делу, камергеру же предложил лично снестись с Кольхаасом, какового аттестовал как человека скромного и справедливого. Что касается самого конноторговца, то его воля была сломлена последним происшествием на рыночной площади, и он, следуя совету гроссканцлера, дожидался только сообщения от юнкера или его родичей, готовый все простить и забыть. Но гордым рыцарям не пристало вступать в переговоры с барышником; уязвленные письмом гроссканцлера, они показали таковое курфюрсту, приехавшему навестить больного камергера. Последний трогательно слабым голосом спросил: ужели во исполнение монаршей воли он, всю свою жизнь положив за то, чтобы это роковое дело приняло угодный курфюрсту оборот, должен теперь еще и свою честь выставить на посмешище всему свету, прося о мире и снисхождении человека, навлекшего неслыханный позор на него и весь его род? Курфюрст, прочитав письмо, смущенно спросил графа Кальхейма: не правомочен ли трибунал, считаясь с тем, что лошадей уже нельзя привести в прежний вид, объявить их более не существующими и приговорить юнкера фон Тронка к уплате денежного возмещения. Граф отвечал:
— Всемилостивейший государь, они и в самом деле мертвы с точки зрения государственного права, ибо более не имеют никакой цены и, кроме того, действительно околеют, прежде чем их успеют перевести с живодерни в рыцарские конюшни.
Выслушав его, курфюрст положил письмо в карман, обещал сам переговорить с гроссканцлером, успокоил камергера, который, приподнявшись с подушек, благодарно потянулся к его руке, еще раз посоветовал ему беречь свое здоровье, поднялся с кресла и, милостиво кивнув больному, удалился.
Так обстояли дела в Дрездене, когда над бедным Кольхаасом разразилась новая, еще более страшная гроза, надвинувшаяся из Лютцена. Коварным рыцарям все-таки удалось обрушить зловещий удар грома на его горемычную голову. Некий Иоганн Нагельшмидт, один из шайки конноторговца, распущенной им после амнистии, через некоторое время собрал остатки этого сброда, готового на любое преступление, и на границе Богемии стал самочинно продолжать разбойное дело, некогда начатое Кольхаасом. Ничтожный малый, отчасти чтобы припугнуть своих преследователей, а также, чтобы побудить деревенских жителей — им это было бы не впервой — к участию в его проделках, именовал себя наместником Кольхааса. Понабравшись смекалки у бывшего своего атамана, он пустил слух, будто многие мирно воротившиеся в родные места, несмотря на амнистию, были брошены в тюрьму и что даже самого Кольхааса, тотчас же по его прибытии в Дрезден, вероломно взяли под стражу; более того, в грамотах, точь-в-точь похожих на Кольхаасовы, которые он приказывал развешивать по городам и весям, его разбойничья шайка объявлялась воинством, призванным во славу Божию защищать права, дарованные курфюрстовой амнистией. Делалось все это отнюдь не во славу Божию и не из приверженности к Кольхаасу, чья участь была им глубоко безразлична, просто под такой личиной удобнее было заниматься поджогами и грабежом. Когда весть о новой шайке достигла Дрездена, рыцари не могли скрыть своей радости, ибо это обстоятельство давало иной оборот всему делу. С многозначительной и недовольной миной толковали они о допущенном промахе, то есть о том, что вопреки их настойчивым и неоднократным предостережениям Кольхаасу было даровано помилование, как бы призывавшее злодеев всех мастей следовать его примеру. Мало того что они говорили, будто Нагельшмидт взялся за оружие, желая отстоять безопасность своего угнетенного атамана, они еще утверждали, что все это затея Кольхааса, имеющая целью запугать правительство и принудить суд без промедления вынести приговор, удовлетворяющий неистовое его своеволие. Кравчий же, господин Хинц, дошел до того, что в приемной курфюрста, где после обеда собралось несколько человек придворных и охотничих, стал доказывать, что Кольхаас и не думал распускать свою лютценскую шайку, что все это только хитроумный маневр; далее, насмехаясь над поборником справедливости — гроссканцлером и остроумно сопоставляя различные обстоятельства, он сделал вывод, что разбойники прячутся в лесах курфюршества, дабы по первому сигналу конноторговца снова ринуться огнем и мечом крушить все вокруг. Принц Кристиерн Мейссенский, опасаясь, как бы подобный оборот дела не запятнал славы его повелителя, немедленно отправился во дворец к курфюрсту; уразумев намерение рыцарей воспользоваться этим новым преступлением и окончательно добить Кольхааса, он испросил у курфюрста дозволения тотчас же учинить допрос последнему.
Стражник препроводил в ратушу несколько удивленного Кольхааса, державшего на руках меньших своих сыновей — Генриха и Леопольда. Верный его Штернбальд только вчера привез всех пятерых детей из Мекленбурга, где они находились, и всевозможные горькие мысли — вдаваться в них здесь будет неуместно — заставили его взять с собой мальчиков, плакавших и умолявших не оставлять их одних. Принц ласково поглядел на детей, которых Кольхаас усадил подле себя, спросил, сколько им лет, как их зовут, и лишь затем сообщил Кольхаасу о разбойных деяниях Нагельшмидта, его бывшего сообщника, в долинах Рудных гор; показав ему так называемые «мандаты Нагельшмидта», он спросил, что может Кольхаас сказать в свое оправдание. Так как принц был честным и прямодушным человеком, то Кольхаасу, хотя ужас и объял его при виде сих позорных и предательских документов, удалось без особого труда опровергнуть огульно возведенный на него поклеп. Однако убедили принца не только слова Кольхааса, что дело его складывается сейчас достаточно благоприятно и вряд ли он может испытывать нужду в помощи третьего лица, но прежде всего бумаги, оказавшиеся при нем, из коих выяснилось даже некое весьма примечательное обстоятельство, а именно, что Нагельшмидт ни за что не стал бы помогать Кольхаасу, ибо незадолго до роспуска лютценской шайки, изобличенный в изнасиловании и прочих преступлениях, он был приговорен последним к повешению; спасла его лишь амнистия, положившая конец власти Кольхааса; на следующий же день они разошлись заклятыми врагами. По предложению принца Кольхаас сел за стол и составил послание к Нагельшмидту, в котором объявлял утверждение последнего, будто бы он и его шайка поднялись на защиту нарушенной амнистии, позорной и наглой ложью, а также сообщал, что по прибытии в Дрезден не только не был взят под стражу, но, напротив, правое его дело движется самым желательным для него образом. Далее он предупреждал Нагельшмидта и весь сброд, того окружавший, что закон со всей строгостью покарает их за поджоги и убийства, совершенные в Рудных горах уже после опубликования амнистии. Для пущей острастки в этом послании приводились еще некоторые подробности суда, который он, конноторговец Кольхаас, вершил над ним в Лютцене, когда за постыдные преступления тот был приговорен к повешению и лишь вовремя подоспевший рескрипт курфюрста об амнистии сохранил ему жизнь. Прочитав это, принц успокоил Кольхааса насчет подозрения, которого вынужден был коснуться на этом допросе и при данных обстоятельствах, увы, неизбежного, заверил, что, покуда Кольхаас находится в Дрездене, амнистия, ему дарованная, никоим образом не будет нарушена, потом угостил детей фруктами из вазы, стоявшей на столе, попрощался и отпустил Кольхааса. Гроссканцлер, узнав об опасности, нависшей над Кольхаасом, приложил немало усилий, чтобы ускорить окончание дела, покуда оно вконец не запуталось и не осложнилось, к чему как раз и стремились коварные политиканы, рыцари фон Тронка. Если прежде, молчаливо признавая свою вину, они добивались лишь смягчения приговора, то теперь с помощью всевозможных хитростей и крючкотворства пытались и вовсе эту вину отрицать. Они то твердили, что Кольхаасовы вороные были самоуправно задержаны в Тронкенбурге кастеляном и управителем, а юнкер-де ничего об этом не знал, разве только слышал краем уха, то уверяли, что лошади прибыли уже больные сильным и опасным кашлем, ссылались на свидетелей и брались немедленно доставить таковых, буде они понадобятся. Когда же эти аргументы после долгих расследований и разбирательств были опровергнуты, они откопали курфюрстов эдикт двенадцатилетней давности, в котором по случаю свирепствовавшего тогда мора и в самом деле запрещался ввоз лошадей из Бранденбурга в Саксонию, пытаясь доказать, что юнкер не только имел право, но обязан был задержать лошадей, пригнанных из-за границы.