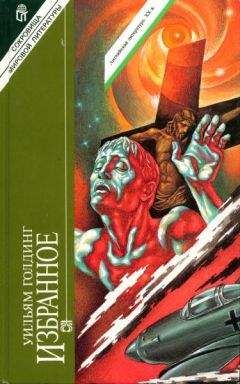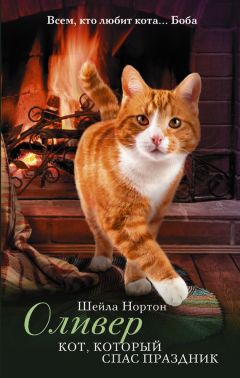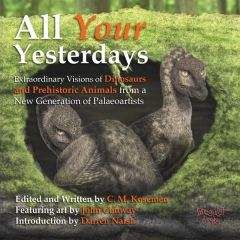– Ты был бы прелестный ребенок, – сказал он медленно, рассеянно, – если бы содержал себя в чистоте.
Он придвинул руки на подлокотниках ближе к спинке и брезгливо поежился. Я понял: он отстраняется от меня; я потупился, так мне вдруг стало стыдно и за то, что меня обозвали девчоночьим словом «прелестный», и за то, что я такой тошнотворный грязнуля. Мы долго молчали, и я смотрел на его башмаки, повернутые носками внутрь. Справа, не переставая, ревела Вселенная, набитая звездами.
– Кто подучил тебя это сделать?
Филип, конечно, кто еще!
– Такому маленькому мальчику вряд ли подобная мысль пришла на ум самому.
Вот чудило. Я поднял на него глаза и тут же опустил. Оценил непомерную сложность объяснений и, поняв, что они мне не по силам, отступился.
– Назови мне имя молодчика, который тебя подучил, и сразу пойдешь домой.
Так ведь не было никакого молодчика. Были только Филип Арнолд и Сэмми Маунтджой.
– Почему ты это сделал?
Почему? Почему? Потому.
– Но ты не можешь не знать почему.
Конечно, я знал почему. У меня в голове имелась полная картина, как я дошел до жизни такой, и во всех подробностях. Почему я это сделал? Потому что из слов другого священника, наставлявшего Филипа, выходило, что от церкви можно, пожалуй, получить больше захватывающих удовольствий и приключений, чем от кино; потому что у такого, как я, отверженного, существовала потребность бить и крушить все равно что – пусть знают; потому что мальчишка, отделавший Джонни Спрэга так, что его мамка примчалась жаловаться директору, должен поддерживать свое особое положение; потому что, наконец, – и о чем там трезвонят звезды? – я уже помочился три раза и иссяк. Да я много еще чего знал. Знал, что меня будут допрашивать с железным, взрослым терпением. Знал, что мне никогда не стать таким высоким и важным, знал, что сам он никогда не был ребенком, знал, что мы два разных существа, каждый на своем, ему предназначенном и неизменном, месте. Знал, что вопросы заданы по праву, но бессмысленны и не заслуживают ответа, потому что исходят из чужого мира. А по другую сторону высокой стены были бы уместны, законны и невозможны. Интуитивно я знал: задавать такие вопросы – все равно что черпать воду ситом или пытаться поймать тень рукой. А интуиция эта – одна из горчайших горестей детства.
– Ну так кто же тебя подучил?
Да, что и говорить, когда рассеиваются призраки – придуманные враги, тираны и разбойники, бандиты, ковбои, хорошие люди и плохие, – остаешься лицом к лицу с грубой реальностью; с глаголящим взрослым в четырех настоящих стенах. И вот тут-то полицейские и надзиратели, учителя и родители ломают нашу простодушную цельность. От героя остается пшик, и стоит зареванное беззащитное ничтожество.
Сколько бы я выдюжил? Сумел бы держаться, как Тинкер? Вот уж кому без конца угрожали мучительнейшей смертью, если он не расколется! Но на этот раз мне не пришлось даже заподозрить себя в несостоятельности: вдруг ужасно захотелось – домой и лечь. А потом даже дорога домой казалась непосильной. Вселенная ввинчивалась мне в голову, плыл мимо Млечный Путь, и зеленые огни поющих звезд расплывались в сплошную, закрывавшую все вокруг пелену.
Дальше мои воспоминания смутны, как горный пейзаж в тумане. Сам ли я шел домой? А если меня несли, так чьи руки? Во всяком случае до Поганого проулка я как-то добрался, а назавтра, как всегда, пошел в школу. Это я помню ясно. Только был не такой, как всегда. Помнится, у меня было такое чувство, будто на меня долго-долго капает, и я уже захожусь от всхлипов, хотя никакого дождя нет. Напротив, правую сторону обдавало жаром, а в глубине уха стреляло. Сколько дней? Сколько часов? Тогда, на последнем пределе, я сидел в классе – наверно, поздно вечером, потому что голые лампочки, свисающие на длинных шнурах с потолка, были включены. Я устал от пульсирующей боли, устал от школы, устал от всего, и мне хотелось лишь одного – лечь. Передо мной был белый лист бумаги, я смотрел на него и не мог сообразить, что я должен написать. В классе стоял шепот, и я знал, не понимая отчего, что возбуждение и благоговейный трепет вызваны мной. Мальчишка, сидящий передо мной слева, зачем-то натянул на себя курточку и все время оглядывался. Шепот усилился, и к его парте подошел учитель. Тогда Джонни – он сидел со мной, справа, – встал из-за парты и поднял руку:
– Разрешите, сэр? Сэмми плачет.
Маманя и миссис Донован знали толк по части боли в ухе. Тут был разработан целый ритуал. На какое-то время я оказался в центре внимания всех женщин нашего проулка. Они собирались у нас, сочувственно кивали и смотрели на меня во все глаза. Только сейчас мне пришло на ум, что мы почему-то не пользовались верхом после смерти жильца. Может, мать надеялась подыскать другого, а может, это ее безразличие к пустующей комнате было симптомом упадка сил. Мы жили и спали внизу, как если бы жилец по-прежнему тикал и ухал над побеленными досками, и поэтому я маялся со своим ухом у печки – уютнейшем из всех возможных мест. Маманя развела жаркий огонь. Старая леди с зеленым кожаным цветком пришла с ведерком угля и кучей советов. Мне дали проглотить горькие белые пилюли – аспирин, что ли? – но Вселенная по-прежнему ввинчивалась в голову, причиняя боль. Все предметы разбухли, став больше натуральной величины. Я пытался убежать от боли, но она меня не отпускала. Тогда маманя и миссис Донован, посовещавшись с цветочной леди, решили меня проутюжить. Миссис Донован принесла утюг – своего у нас, верно, не было? – черный, с обшитой коричневым сукном ручкой. Настоящий железный утюг, правда, сильно изъеденный ржавчиной внутри и блестящий только по нижней, гладильной, стороне. Цветочная леди накрыла мне правую часть головы тряпкой, а маманя раскалила утюг. Когда она сняла его с огня и поплевала на блестящую поверхность, по ней запрыгали, закрутились и мгновенно исчезли слюнные шарики. Затем, сев ко мне вплотную, она стала утюжить мне голову через тряпку, а цветочная леди держала меня за руку. И вот когда я заряжался теплом, а вместе с ним верой и надеждой избавиться от боли, отворилась дверь и пропустила высокого священника, с поклоном остановившегося на пороге. Маманя сняла тряпку и утюг, а сама поднялась. Боль снова усилилась, засверлила невыносимо, я заворочался: лег сначала на одну сторону, потом на другую, потом лицом вниз, и при каждом повороте у меня перед глазами стоял застрявший в дверях священник с открытым ртом. Может, они прошли в комнату и говорили – ничего не осталось в памяти. Взгляд в прошлое возвращает их неподвижными – словно вросшие в землю камни. Как раз тогда боль принялась стучать в дверь моих недр – в мою личную, неприкосновенную храмину, и я заорал, заметался. Священник куда-то делся, и вместо него из моря пламени и океана черноты под волшебными зелеными звездами возник громадный детина, который дрался со мной, вязал меня, держал за локти, прижимал с невероятной силой и все время бормотал:
– Укольчик, только укольчик.
У меня и сейчас за правым ухом серповидный шрам, как новая луна, и вмятина. Они такие давние, что кажутся естественными и вполне на месте. Я обрел их как раз в тот день или, самое позднее, в ночь на следующий. Тогда не было еще ни пенициллина, ни чудо-лекарств, глушивших и убивавших инфекцию. Если у врача появлялась хоть крупица сомнения, он немедленно брал скальпель и принимался за сосцевидный отросток. Очнулся я в незнакомом месте, в незнакомом мире. Я лежал над миской; меня так тошнило и одолевала такая слабость, что ничего, кроме этой миски, чего-то белого и натертого до блеска коричневого пола, я не воспринимал. Боль уменьшилась до тупой, непрерывно пульсирующей, от которой я разревелся в школе, но теперь у меня не было сил даже плакать. Я лежал, оглушенный лекарствами, жалкий, с тюрбаном из марли, ваты и бинтов на голове. Раз-другой за эти дни приходила маманя. В первый и последний раз я увидел в ней не мощную неохватную фигуру, заслоняющую тьму, а просто женщину. Иногда одурманенный глаз извлекает крупицу здравого смысла, который не дано увидеть нормальному. В свой тяжкий час я увидел ее со стороны – тучное обвислое тело, пятнистое, грязное. Волосы висели патлами, закрывая бурый лоб, на квадратном тяжелом, чуть отекшем лице в углу рта торчал окурок. Теперь я увидел ее мясистые короткопалые руки, забуревшие, с красными и синими разводами, прижимавшие к коленям хозяйственную сумку. Она сидела, как всегда сидела, – величественная и равнодушная, но газ уже выходил из этого баллона. Ей почти нечего было мне принести. Что может уделить другому женщина, у которой нет даже своего утюга? Все же она думала обо мне и кое-что припасла. В изголовье кровати была тумбочка, и она положила туда стопку засаленных этикеток – моих излюбленных фараонов.
И я снова спрашиваю себя: «Ну? Здесь?» – и мое «я» отвечает: «Нет, не здесь». Этот мальчик имеет ко мне столько же отношения, как любой другой. Просто он доступнее мне. Я не могу вспомнить, как он выглядел. И вообще, знал ли я его? Может, и не знал. Он все еще летящий по ветру мыльный пузырек, наполненный то счастьем, то болью, которых я уже не чувствую. В моем сознании эти чувства представлены цветовыми ощущениями, как и сам этот мальчик. Его неполноценность и провинности ко мне непричастны. У меня хватает своих, разросшихся чертополохом на почве моей жизни. Вот только корни обнаружить не могу. Сколько ни пытаюсь, не вижу в нем ничего, что имеет отношение ко мне.