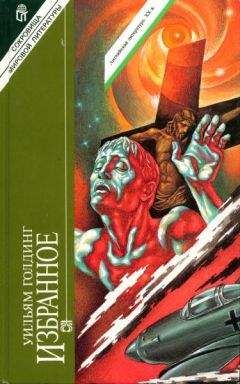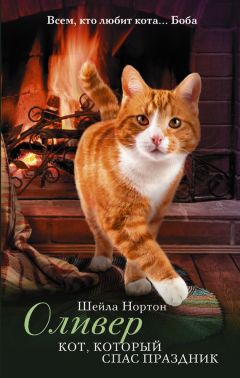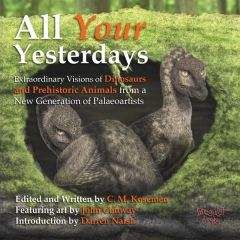Лежать в палате, когда боль перестала сверлить голову, было хорошо. У меня не обошлось без осложнений. Становилось то лучше, то хуже. В палате я провел целую вечность, так что теперь вполне могу переключить свое сознание с мира Поганого проулка на мир палаты, словно с одной планеты на другую. И там, и там я чувствую себя вне времени. Я не могу ясно вспомнить ни врачей, ни сестер, ни даже остальных детей. Такое память, должно быть, воскрешает выборочно, иначе не объяснить, почему я забыл, кто лежал от меня справа, кто слева. Зато помню малышку, лежавшую напротив. Это была совсем крошечная негритяночка в крупных кудряшках и с круглым глянцевым смеющимся лицом. Никто не понимал языка, на котором она лопотала. Помню также, что в отличие от других она лежала в детской кроватке, потому что, вставая в изножье, держалась за верхнюю перекладину и раскачивалась. Говорила она без умолку. Смеялась, пела и говорила, говорила, весело и неудержимо, что-то невнятное, бессмысленное каждому, кто к ней приближался, – врачам, сиделкам, посетителям, старшей сестре, детям. Не было человека, ее увидевшего, который бы эту малышку не полюбил. Исходя из обычного порядка вещей, полагаю, что ее взяли в больницу, подвергли положенному лечению, а потом она выздоровела и ушла. Но для меня, когда я думаю о палате, она всегда там – маленькая фигурка в белой ночной рубашке с двумя черными как смоль ручонками и черным поблескивающим лицом, раскачивающаяся и смеющаяся.
Помню я и старшую сестру: она возилась со мной больше, чем возятся обычно с больными. Она была высокая, сухощавая. И наверно, красивая – суровой красотой. Она ходила в темно-синем форменном платье, а крылья ее косынки были ослепительной белизны. Крахмальные, словно атласные нарукавники, узкие в запястье, расширялись к локтю. Когда она входила в палату, Вселенная переставала вращаться. Сиделкам мы иногда устраивали тяжкую жизнь, ей – никогда. Ее окружала атмосфера благоговения. Возможно, тут сказывалось почтительное отношение к ней сиделок и сестер, но что касается меня, она внушала мне благоговейный трепет так же естественно, как внушает спокойствие мать.
Она сделала для меня благое дело.
Одна из сиделок сказала мне, что с маманей плохо и поэтому она не навещает меня. Я выслушал это, не вдумываясь: был слишком захвачен беспредельным миром палаты. Так или иначе, моя тумбочка была заставлена гостинцами не меньше, чем у других, и папы и мамы, приходившие к своим детям, казалось, принадлежали не им одним. Я делил с ними и посещавших, и все прочее. В палате все происходило иначе, все было на редкость щедрым, исключительно упорядоченным. Но однажды старшая сестра, вместо того чтобы встать к моей кровати или перед ней, вдруг присела на край. Она сказала, что моя мама умерла – она теперь на небе и счастлива. А потом старшая сестра протянула мне то, о чем я всегда мечтал, даже не надеясь, что такое сокровище может быть моим, – альбом для марок и несколько конвертов с рассортированными марками. В каждом конверте было по окошечку, через которое виднелись радужные квадратики. И еще она дала мне пакетик с прозрачными уголками для наклеивания, матовыми с одной стороны и лоснящимися от клея – с другой. Она велела мне открыть пакет и показала, как закреплять марки и как отыскивать в альбоме нужную страну. Должно быть, она просидела со мной очень долго, потому что, помнится, я, целиком уйдя в это дело, заполнил альбом кучей марок. Не могу сказать, чтобы я горевал. Даже цвета моему состоянию не подберу. Помню только, я с большой силой чихнул вверх, потому что горькое лекарство в стаканчике, который держала в руке сестра, расплескалось, и ей пришлось послать сиделку за новой порцией. А потом я заснул над моим альбомом, а когда проснулся, в палате было все, как всегда, а в моей жизни появился еще один факт, и – как мне теперь кажется – уже приятный. Чего только не приемлет человек – несть у этого колодца дна!
Совсем без посетителей я тоже не оставался. Меня навестил высокий священник и постоял у моей постели, растерянно на меня поглядывая. Он принес мне кекс, испеченный его экономкой, и удалился, воздев очи к потолку и с трудом отыскав заплетающимися ногами дверь. Затем пожаловал церковный служитель. Он осторожно присел ко мне на постель и попытался завести разговор, но ему так давно не приходилось иметь дела с детьми – разве только выгонять из церкви, если расшумятся, – что бедняга не знал, как к этому подступиться. При дневном свете он оказался морщинистым человечком, одетым в черное согласно его званию и с черным котелком на голове. Оставаться в палате с котелком на голове он счел неудобным и, сняв его, положил на кровать, затем, забрав оттуда, поставил на тумбочку, но тут же снова забрал, словно в уверенности, что рано или поздно найдет то место, которое черному котелку надлежит и подобает занимать в больнице. Он привык к ритуалу, к точной науке символов. Лоб у него был высокий, лысый, брови отсутствовали, а усы очень походили на те, какие носил наш жилец, только другого цвета. Несколько жидких крашенных черным прядей – остаток былых волос – прикрывали макушку лысой головы. Я смущался его, потому что он смущался меня и был чем-то озабочен. Говорил он со мной так, словно я тоже был взрослым, и поэтому сложная история, которую он излагал, от меня ускользала. Я не мог постичь, что он имеет в виду, улавливал лишь отдельные фразы, а понимал все наоборот. Приходится воевать с одним обществом, сказал он, и я сразу подумал о тайном обществе. «Ихние» люди собирались в глубине церкви у выхода и горланили во время службы. Это уже само по себе гадко, но они пошли еще дальше. Кое-кто – называть имена ему нежелательно, поскольку прямых улик нет и он не может привести ни одной под присягой в суде, – кое-кто темными ночами проникал в церковь, портил убранство, срывал покровы, и все потому, что, по их мнению, церковь стала слишком высокой[5]. Мне припомнилась связка прямоугольников, парящих на головокружительной высоте, и я решил, что понял, о чем он говорит. Потом он сказал, что старший священник всегда принадлежал к высокой, но в последнее время стал, по-видимому, брать все выше и выше. А потом появился отец Ансельм, младший священник, и он, конечно, тоже, как и старший, тяготел к высокой и даже забирал чуть выше – так что, по правде сказать, заявил служитель, он ни капельки не удивится, если в один прекрасный день…
Но тут он осекся, предоставив мне понемногу разбираться в том, как «высоко» можно забраться и что будет, если залезть на самую верхотуру. Если младший забирал так же высоко, как и старший, значит, и его голова тонула где-то во мгле, когда он стоял на ковровой дорожке. И когда служитель заговорил снова, я перестал его слушать. Он бубнил над моей головой о нишах, хранящих священные книги, ризах, образах, кадильницах и кадильщиках. А я мысленным взглядом обозревал погруженную во мглу церковь, битком набитую длинными-предлинными священниками.
Потом я сообразил, что он говорил уже о другом – о том, как услышал, что мы с Филипом ходим по церкви. Он никогда не зажигал света до самого последнего момента. И если леди Кросби ждала исповедника, он тоже не зажигал, пока она не уходила, как велел ему отец Ансельм. Ночью почти никогда не зажигал. Это был единственный способ поймать негодяев из этого общества. Когда он засек нас, то решил убедиться. Взял фонарик и, выйдя крадучись из ризницы, пробрался на хоры за кресла. А когда увидел, что это только ребятишки, ужасно разозлился.
Я навострил уши. Он вроде как собирался рассказать мне во всех подробностях, как, крадучись за креслами, на цыпочках спустился вниз. Да, славно он это проделал и меня славно изловил.
Он снял с кровати котелок и поставил на тумбочку. Теперь он приступил к цели своего визита. Конечно, я очень намаялся с ухом, но он же не знал, а из-за этого общества никакого житья не было…
Он замолчал. Покраснел. Болезненно покраснел. Вытянул вперед правую руку:
– Да знай я, что такое случится, лучше бы сам себе руку отсек. Мне очень совестно, парень. Даже сказать не могу, как совестно.
Простить – чистая радость, почище, чем геометрия. Я еще тогда это понял, понял как закон естественной истории. Это воистину целительный акт, вспышка света. Такой же нужный и благодетельный, как эстетическое наслаждение, не слабый и размягчающий, а кристальный и сильный. Это – знак и печать взрослого состояния, подобно эпизоду в жизни известного героя, когда он чем ранил, тем и исцелил[6]. Но святая простота не способна распознать наносимый ей вред, и потому народная мудрость права. Как может простить нанесенный ему вред наивный простак, когда он не воспринимает содеянное с ним как вред себе? И это тоже я понимаю как закон естественной истории. По-моему, природа нашей Вселенной такова, что кристально чистое и сильное действие взрослого человека исцеляет рану и изглаживает шрам не только на сегодня, но и на будущее. Рана, которая, возможно, кровоточила бы и гноилась, превращается в здоровую плоть, а самого акта словно вовсе и не было. Но как святой простоте такое понять?