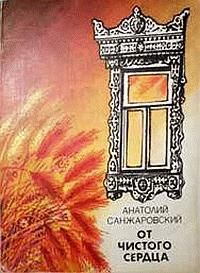– А что я должна делать?
– Да что… Войдёте с нами, распишитесь… Автограф оставите… Вот и всё.
– Ну-у! Своей закорючки мне не жалко.
Уважила я людям, на душе как-то посветлело. Выходит, не зря я сюда тащилась, есть от меня полезность!
И потом, что понравилось лучше всего, не у одних у нас, ёлки-коляски, такой перекосяк житуха дала.
Потеплело у меня в груди, сижу улыбаюсь.
«Припожаловал бы мой холерик – без надобностев катить в тот Воронеж… Посулилась под запал…»
Я начинаю припоминать, брать из памяти наши с Валерой разговоры про загс. Помалу дохожу до веры в его словах про смущение.
Ну, в самом деле…
За всю жизнь Валера и разу не занашивал ноги своей в баню. Всё стеснялся.
Я мыла его дома, всегда в тазике. Поливала из чайника и мыла.
Ни разу, сколько помню, не скупнулся в пруду, хоть пруд вот он вот, за огородами, хороший же пруд, князья когда-то белую кость споласкивали. А Валера и разу вот не сполоснулся по причине большого смущения.
– Ну-с, – как скрозь сон слышу я ненатуральный усачов смешок, – продолжим, киска, наши танцы… Ответь не мне, себе ответь. Ты очень меня любишь?
– Ровно столько, сколько и ты меня.
– Ну-у знаешь… с уравниловкой… – ворчит усач и трогает меня за руку. – Бавушка, что ж вы под пустой спите дверью? Впереди никого, ваша очередь…
– Ах, да-а, – спохватилась я. – Обмечталась об своем… Задремала… Идить вы сейчас… идить… Я посля… Я… я… внучку жду!
Совсем из ума выступила, кинулась не в дело сочинять, а у самой уши со срама огнём горят.
– Haм как-то без разницы, – с далёкой подковыркой кладёт ответ усач, – кто выходит замуж, бабунька или внунька.
– Знамо дело, внучка! – лезу я на свою вышку. – Беспокоилась не опоздать. Послала дажно взять очередь!
Эвона куда погнула бабка углы…
– Ну прямо как в гастрономе, – встаёт усач.
Пропали эти за дверью, ан вот тебе двое пьяненьких, как пуговка, мальцов – на вид подлетки вряд ли и вошли во взрослые года – втащили с улицы девчурку ну хрусталик хрусталиком.
Тоненькая, ладненькая, всё при ней.
Даром что баба я, а век бы пила глазами её красу – не напилась бы.
– Серёнь! Старичок! Ты давай держи её, – большенький переложил девчачье запястье в руку меньшаку, – да покрепша, а я двину на дело. Не баловаться мне на посту! Чао!
Большенький поднял в прощанье руку, взаплётку пошёл к нам.
Идёт, размахивает сумкой с буквами ЦСКА и не в крик ли на весь зал шумит:
– Дорогие граждане!.. Даже товарищи!.. Скажите, где здесь срочно женят?
Ему со смешками показывают на мою дверь.
Подошёл, таращится на меня. Я ответно смотрю на него, дивуюсь. До чего ж пьяненький – хоть дёгтем соборуй. Бормотухой так и бьёт, так и шибает от него в нос. Пустые соловые глазенята, чисто тебе из стекла камушки, не мигают.
Уставился на меня и копец. Одно слово, шабаш, миряне, обедня вся.
Не знаю, что ему там такое на подогреве мерещится, только он блудливо лыбится и вовсе не подумывает убирать с меня бесстыдские гляделки свои.
«Ну ты так? Мне не убыточно подковать безногого щенка!»
Без спеха поправила я платочек на голове, на брови так на самые марьяжно надвинула да и – мысленное ль дело, какой вот грех навернулся на старючую дуру штопаную! – в лёгкости в самой малой возьми шалопутно и подморгни мальцу, как в обычности подмаргивают занятным ребятишечкам слабые на пустое слово взрослые, когда подмасливаются со сладостью в душе поточить с детишками трепливый язычок свой.
А он, мокрогубик шкет, икнул и ломит на то мне:
– Ты что, старая клюшка, хипуешь?
Я змеёй так и взвейся:
– Ты, шшшалкопёр! – кладу ему с порога для разгона. – Ты мне из всех рамок не выступай да с хулиганствиями не липни. А то я скоро дородно нос начищу! Видали таковского… С грехом пополам уговорил с наперсточек бормотухи – уже на подвиги повело. Пил бы лучше кефир!
– А в кефире, мать, тоже бегают градусы!
Да его нипочём не проймешь! Ну разве что этим…
Он, соловей соловый, стоит ко мне опьянелой личностью, а у него за спиной, в отдальке так, не у гардероба ли, дружок схватил его невесту в охапку да ух и жмёт, ух и мнёт, ух и поцелуями жгёт.
– Ты б лучше, – в злорадстве показываю ему на то, – глянул, какой компот из твоей любуни творят.
– А, чепухель… Думаешь, я дурнее паровоза? Не знаю?
Сказал он это спокойно, даже равнодушно. Похлопывает знай себе мохнатыми ресничками, знай лыбится…
– И душа, – дивлюсь, – лежит?
– А что ей, душе-то, остаётся?… Втроём мы учились в одном классе… Она, глупка, никак не выберет кого из нас… Так острым треугольником и ходим… С её согласия я предложил – я соединяю идеи с претворениями! – я предложил тянуть на спичках. Мне выпало идти под расписку.
– А что ж она тогда с тем аршином в кепке цалуется?
– По старой памяти, наверное…
– Юр! – зовёт Сергей моего разговорщика. – Хиляй к нам! Давай сыпь к нам… Можь, сюда в другой раз? А?
– Не-е, блатная ты сыроежка… Перестань компостировать мне мозги. Я своего не отпущу!
– Ну как знаешь, отец…
– Старичок, ты чего слова жуёшь? Ты давай руби конкретно, что там у тебя.
– А хотя бы то, что напрасно я вчера отстегнул от родительского бюджета на билеты целых полтора рэ… – Сергей смотрит на часы на стене. – Вообще-то, сразу если сейчас сняться с якоря, успеем в «Славу» на наш «Народный роман».
– Это-то и всё? Что твоё кино? Секи момент. Здесь начнётся кинуха почище! Зря ли мы градусы для духа принимали?
Тут выплыл розовенький усач со своей картинкой под руку; так и пляшет, ловкий гусь, перед ней, как бес перед заутреней.
– Ну, паря, – дергаю я Юрку за рукав, – чего стоишь врытым столбушком? Твой черёд. А посчастило б тебе, хлопче…
Юрка молча развёл руками.
Только это Юрка за дверку, тут тебе девчушка, – она всё прятала глаза, – со всей моченьки в неожиданности ка-аак дёрнет ручонку из менышаковых ослабелых клещей да рысью на двор, меньшак – вследки.
Мдa-a… Такой ералаш напрямик большая родня той моей каше, когда я сбежала от своего прасольщика из-под самого венца…
Что ни говори, а у любви свой устав…
Вот…
Проходят большие века, рушатся целые государства, в борьбе народы меняют власть, но ни нá волос не меняет Любовь своего устава: нет и никогда не объявится такая сила, что могла бы взять верх над Любовью и положить ей свою волю.
Ничего нет первее Любви. Ничего нет праведней Любви. Ничего нет главнее Любви. Ничего нет сильнее Любви.
Человечий род – это всего лишь вечное дитя Любви, дитя умное, дитя красивое, дитя богатырское, но вместе с тем и дитя слабое, кому суждено жить, покуда живёт Любовь…
Жду я, пожду… Ан ни девчушки, ни меньшака…
Осталось мне одно: сиди да слушай.
А скрозь дверь помилуй как хорошо слыхать.
– Здрасьте, – говорит Юрка.
– Здравствуйте.
Голос у женщины со скрипом как вроде.
– Я вот пришёл… Понимаете?…
– Понимаю. Зачем вы пришли?
– А зачем все сюда приходят?… Я ззамуж хочу!.. И мммоя девушка!..
– А где же ваша девушка?
– Как где?… Здесь… Её кореш мой у гардероба караулит. Она, понимаете, стесняется. Понимаете?
– Отчего же не понять. Сколько, молодой человек, вам лет?
– Тёть, а вы в семнадцать лет жените?
– Надо специальное решение райисполкома.
– А ну без специального?
– Без специального нет.
– Из-за какой-то бумажки…
– А без бумажки не могу.
– Вы и не можете! Всё ж в ваших руках… Что вам стóит! Ну, тё-ё-ёть…
– Как вы себя ведёте?
– Хорошо веду. Я зззамуж хочу! И мммоя девушка!
– Приходите через год. К той поре, надеюсь, вы протрезвеете.
– Да Тани уже не будет! Не будет! Как вы это не поймёте?!
Тут Юрка как заревёт, бедолага, по-страшному и в слезах вылетел от регистраторши, будто ветром его выкинуло.
Вот ты какая горькая нескладица…
Не успела я свести, что тут да к чему, ан висит-болтается у меня на шее Ленушка.
– Бабушка… родненькая… – ронит слёзы, – не yxoди-и…
В толк никак не войду, с чего она такую песню поёт.
– А куда это я ухожу? – стороной так в разведку выуживаю.
– Да-а, куда-а… Хитроумка ты… – Помалу Ленушка перестаёт мокрить. – Когда ты пошла, я спросила дедушку: «Дедушка, а почему бабуня такая сердитая?» А дедушка ответил: «Бросила меня бабуня, ушла». – «А почему?» – «Я ей больше не наравлюсь. У меня на голове нету волосов». – Бабушка! Родненькая! Не бросай дедушку! Ну честное слово, волосики у дедушки на головке ещё вырастут, как у братика Коли!
– Ну-у, ежель всё так, как распеваешь, – смеюсь, – не спокину я ненаглядного дедушку твоего. Только что ж сам?
– А сказал – придёт. И вот увидишь, придёт!
А кочерга эта горелая легка на помине. Вон он сам, мокроглазый, ясной личностью сверкает.
Подступается, через усталь улыбку засылает.
– Я, Марьянушка, – входит в рапорт, – Ленушку взял. Всё, думаю, смелости мне накинет… Завидела она тебя с порожка, вывинтила потную ручонку у меня из кулака, локотки нарастопыр да и понеслась вприскок к вашей милости. Ни на каких вожжах не удержать. Спокинула деда одного на произвол случая. А меня было в дверях не опрокинул с катушек один шутоломный жених… Это ж по какому по такому папуасскому правилу обходятся тут с нашим братом, что тот жених натурально ревел белугой?