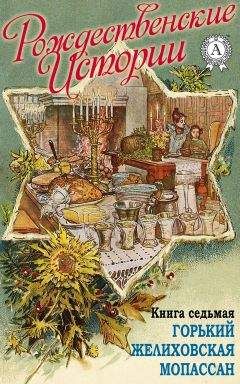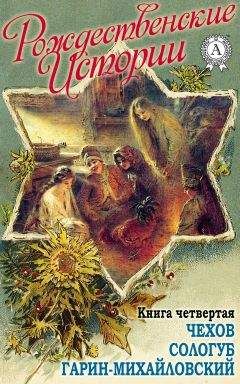Нигде, может быть, не изменилось оно так много, – лет сто тому назад, – как в маленьком саду возле одного старого каменного дома с крыльцом, осененным каприфолиями: так, в светлое осеннее утро, раздавались смех и музыка, и две девушки весело танцевали на траве; с полдюжины крестьянок, собиравших, стоя на лестницах, яблоки с дерев, приостановили работу и смотрели на пляску, разделяя веселье девушек. Сцена была очаровательная, живая, неподдельно веселая: прекрасный день, уединенное место; девушки в полной беспечности танцевали без малейшего принуждения, истинно от всей души.
Если бы на свете не заботились об эффекте, я думаю (это мое личное мнение, и я надеюсь, что вы согласитесь со мною), – я думаю, что вам жилось бы лучше, да и другим было бы приятнее с вами жить. Нельзя было смотреть без восторга на пляску этих девушек. Единственными зрителями были крестьянки, собиравшие на лестницах яблоки. Девушки были очень довольны, что пляска им нравится, но танцевали они ради собственного удовольствия (или, по крайней мере, вы непременно так подумали бы); и вы любовались бы ими также невольно, как невольно они танцевали. Как они танцевали!
Не так, как оперные танцовщицы. Нет, нисколько. И не так, как первые ученицы какой-нибудь мадам N. N. Нет. Это был ни кадриль, ни менуэт, ни контраданс, а что-то особенное: ни в старом, ни в новом стиле, ни в английском, ни во французском; разве, может быть, что-то в роде испанской пляски, как говорят, веселой, свободной и похожей на импровизацию под звуки кастаньет. Они кружились, как легкое облако, перелетали из конца в конец по аллее, и воздушные движения их, казалось, разливались по ярко озаренной сцене, все дальше и дальше, как крут на воде. Волны волос их и облако платья, пластическая трава под ногами, шумящие в утреннем воздухе ветви, сверкающие листья и пестрая тень их на мягкой зелени, бальзамический ветер, весело ворочающий далекую мельницу, все вокруг этих девушек, – даже крестьянин с своим плугом и лошадьми, чернеющие далеко на горизонте, как будто они последние вещи в мире, – все, казалось, танцевало вместе с девушками.
Наконец, младшая из сестер, запыхавшись, с веселым смехом, бросилась отдохнуть на скамью. Старшая прислонилась возле нее к дереву. Оркестр, – странствующие скрипка и арфа, – завершил громким финалом, в доказательство свежести своих сил; но в самом деле, музыканты взяли такое темпо и, споря в быстроте с танцевавшими, дошли до такого presto, что не выдержали бы ни полминуты дольше. Крестьянки под яблонями высказали свое одобрение неопределенным говором и тотчас же принялись опять за работу, как пчелы.
Деятельность их удвоилась, может быть, от появления пожилого джентльмена: это был сам доктор Джеддлер, владелец дома и сада, и отец танцевавших девушек. Он выбежал посмотреть, что тут происходит, и кой черт разыгрался у него в саду еще до завтрака. Доктор Джеддлер, надо вам знать, был большой философ и не очень любил музыку.
– Музыка и танцы – сегодня! – пробормотал доктор, остановившись в недоумении. – Я думал, что сегодня страшный для них день. Впрочем, свет полон противоречий. Грация! Мери! – продолжал он громко: – Что это? Или сегодня поутру свет рехнулся еще больше?
– Будьте к нему снисходительны, папенька, если он рехнулся, – отвечала меньшая дочь его, Мери, подходя к нему и устремивши на него глаза: – Сегодня чье-то рождение.
– Чье-то рождение, плутовка? – возразил доктор. – Да разве ты не знаешь, что каждый день чье-нибудь рождение? Что, ты никогда не слышала, сколько новых актеров является каждую минуту в этом, – ха, ха, ха! право, нельзя говорить без смеха, – в этом сумасбродном и пошлом фарсе – жизни?
– Нет, не слышала.
– Да, конечно, нет; ты женщина, почти женщина, сказал доктор и устремил глаза на ее милое личико, которое она все еще не отдаляла от его лица. – Я подозреваю, не твое ли сегодня рождение.
– Нет? В самом деле? – воскликнула его любимица и протянула свои губки.
– Желаю тебе, – сказал доктор, целуя ее, – забавная мысль!.. счастливо встретить этот день еще много раз. – «Хороша идея, нечего сказать, – подумал доктор, – желать счастливого повторения в таком фарсе…. ха, ха, ха!»
Доктор Джеддлер был, как я уже сказал, большой философ; зерно, пафос его философии состоял в том, что он смотрел на свет и жизнь, как на гигантский фарс, как на что-то бессмысленное, недостойное серьезного внимания рассудительного человека. Корень этой системы держался в почве поля битвы, на котором он жил, как вы сами скоро увидите.
– Хорошо! Но откуда же достали вы музыку? – спросил доктор. – Какие-нибудь мошенники! Откуда эти менестрели?
– Их прислал Альфред, – отвечала Грация, поправляя в волосах сестры несколько полевых цветов, которые вплела с полчаса тому назад, любуясь юною красотою Мери.
– A! Альфред прислал музыкантов; право? – сказал доктор.
– Да. Он встретил их сегодня на заре при въезде в город. Они путешествуют пешком и ночевали здесь; сегодня рождение Мери, так он подумал, что, может быть, это позабавит ее, и прислал их сюда ко мне с запискою, что если я того же мнения, так они к нашим услугам.
– Да, знаю, – беспечно заметил доктор, – он всегда спрашивает вашего мнения.
– А мое мнение было не против, – весело продолжала Грация. Она остановилась и, отступивши на шаг, любовалась с минуту красивою, убранною ею головкою: – Мери была в духе и начала танцевать; я пристала, и вот мы протанцевали под музыку Альфреда, пока не выбились из сил. И музыка была для вас тем приятнее, что ее прислал Альфред. Не правда ли, милая Мери?
– Право, не знаю, Грация. Как ты мне докучаешь своим Альфредом!
– Докучаю тебе твоим женихом? отвечала сестра.
– Да я вовсе не требую, чтобы мне о нем говорили, – возразила капризная красавица, обрывая и рассыпая по земле лепестки с какого-то цветка. – Мне и так прожужжали им уши; а что до того, что он мне жених…
– Тс! Не говори так слегка о верном, вполне тебе преданном сердце, Мери, – прервала ее сестра. – Не говори так даже и в шутку. Такого верного сердца не найти в целом мире!
– Нет, нет, – отвечала Мери, подняв брови в беспечно милом раздумье, – может статься, не найти. Только я не вижу в этом большой заслуги. Я – я вовсе не нуждаюсь в его непоколебимой верности. Я никогда ее у него не требовала. Если он ожидает, что я… Впрочем, милая Грация, что нам за необходимость говорить о нем именно теперь?
Нельзя было без наслаждения смотреть на грациозных, цветущих сестер: они ходили, обнявшись, по саду, и в разговоре их слышался странный контраст серьезного размышления с легкомысленностью, и вместе с тем, гармония любви, отвечающей на любовь. Глаза меньшей сестры наполнились слезами; внутри ее происходила борьба: глубокое, горячее чувство прорывалось сквозь своенравный смысл ее речей.
Разность их лет была года четыре, не больше; но Грация, как часто случается в подобных обстоятельствах, когда обе лишены надзора матери (жены доктора не было уже на свете), Грация так неусыпно заботилась о меньшей сестре своей и была ей предана так безгранично, что казалась старше, нежели была на самом деле; она, естественно, не по летам являлась чуждой всякого с нею соперничества и разделяла, как будто, прихоти ее фантазии только из симпатии и искренней любви. Великие черты матери, самая тень и слабое отражение которых очищает сердце и возносит высокую натуру ближе к ангелам!
Мысли доктора, когда он смотрел на дочерей и слушал их разговор, не выходили сначала из круга веселых размышлений о глупости всякой любви и страсти, и о заблуждении молодежи, которая верит на минуту в важность этих мыльных пузырей, и потом разочаровывается – всегда, всегда!
Но добрые домашние качества Грации, ее самоотвержение, кротость ее права, мягкого и тихого, но вместе с тем смелого и твердого, высказались ему ярче в контрасте ее спокойной, хозяйской, так сказать, фигуры с более прекрасной наружностью меньшей сестры, – и он пожалел ее, пожалел их обеих, что жизнь такая смешная вещь.
Доктору вовсе не приходило в голову спросить себя, не задумали ли его дочери, или хоть одна из них, сделать из этой шутки что-нибудь серьёзное. Впрочем, ведь он был философ.
Добрый и великодушный от природы, он споткнулся нечаянно об обыкновенный философский камень (открытый гораздо легче предмета изысканий алхимиков), который сбивает иногда с ног добрых и великодушных людей и одарен роковым свойством превращать золото в сор и лишать ценности все дорогое.
– Бритн! – закричал доктор. – Бритн! Эй!
Из дому появился маленький человек с необыкновенно кислой и недовольной физиономией и отозвался на призыв доктора бесцеремонным: «что там?»
– Где обеденный стол? – спросил доктор.
– В комнатах, – отвечал Бритн.
– Не угодно ли накрыть его здесь, как сказано вчера с вечера? – продолжал доктор. – Разве вы не знаете, что будут гости, что нам надо покончить дела еще утром, до приезда почтовой коляски, и что это особенный, важный случай?