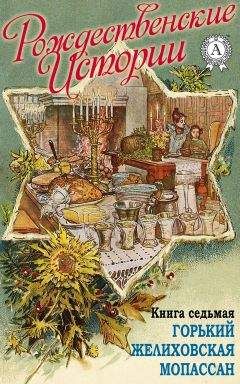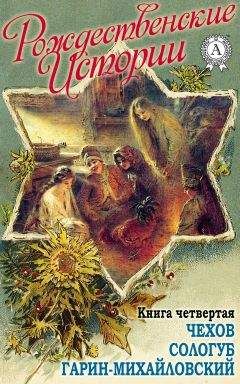– В комнатах, – отвечал Бритн.
– Не угодно ли накрыть его здесь, как сказано вчера с вечера? – продолжал доктор. – Разве вы не знаете, что будут гости, что нам надо покончить дела еще утром, до приезда почтовой коляски, и что это особенный, важный случай?
– Я не мог ничего сделать, доктор Джеддлер, пока не кончат собирать яблоки; сами рассудите, что я мог сделать? – возразил Бритн, постепенно возвышая голос, так что договорил почти криком.
– Что ж, кончили они? – спросил доктор, взглянув на часы и ударив рука об руку. – Скорей же! Где Клеменси?
– Здесь, мистер, – отвечал голос с лестницы, по которой проворно сбежала пара толстых ног. – Довольно, сходите, – сказала она, обращаясь к собиравшим яблоки. – Все будет готово в одну минуту, мистер.
И она начала страшно суетиться; зрелище было довольно оригинально, и заслуживает несколько предварительных замечаний.
Клеменси было лет тридцать: лицо ее было довольно полно и мясисто, но свернуто в какое-то странно комическое выражение. Впрочем, необыкновенная угловатость ее походки и приемов заставляла забывать обо всех возможных лицах в мире. Сказать, что у нее были две левые ноги и чьи-то чужие руки, что все четыре оконечности казались вывихнутыми и торчали как будто вовсе не из своих мест, когда она начинала ими двигать, – значит набросать только самый слабый очерк действительности. Сказать, что она была совершенно довольна таким устройством, как будто это вовсе ее не касалось, и что она предоставляла своим рукам и ногам распоряжаться, как им угодно, – значит отдать только слабую справедливость ее равнодушию. Костюм ее составляли: пара огромных упрямых башмаков, никогда не находивших нужным идти, куда идет нога; синие чулки; пестрое платье самого нелепого узора, какой только можно достать за деньги, и белый передник. Она постоянно ходила в коротких рукавах; с локтей ее (уж так устроила сама судьба) никогда не сходили царапины, интересовавшие ее так живо, что она неутомимо, хотя и тщетно, старалась оборотить локти и посмотреть на них. На голове у нее обыкновенно торчала где-нибудь шапочка; редко, впрочем, на том месте, где носят ее все прочие. Но за то Клеменси была с ног до головы безукоризненно опрятна и умела хранить в наружности какую-то кривую симметрию. Похвальное рвение быть и казаться опрятной и благоприличной часто было причиной одного из поразительнейших ее маневров: она схватывалась одной рукой за деревянную ручку (часть костюма, в просторечии называемая планшеткой) и с жаром принималась дергать другой рукой платье, пока оно не располагалось в симметрические складки.
Вот наружность и костюм Клеменси Ньюком, бессознательно, как подозревали, исковеркавшей полученное ею при крещении имя Клементивы, хотя никто не знал этого наверное, потому что глухая старуха мать, истинный феномен долголетия, которую она кормила почти с самого детства, умерла, а других родственников у нее не было. Накрывая на стол, Клеменси по временам останавливалась, сложивши свои голые красные руки, почесывала раненые локти, поглядывала на стол с совершенным равнодушием, и потом, вспомнив вдруг, что еще чего-нибудь недостает, бросалась за забытыми вещами.
– Адвокаты идут, мистер! – произнесла Клеменси не очень приветливым голосом.
– Ага! – воскликнул доктор, спеша им навстречу к воротам сада. – Здравствуйте, здравствуйте! Грация! Мери! Господа Снитчей и Краггс пришли. А где же Альфред?
– Он, верно, сейчас будет назад, – сказала Грация. – Ему сегодня столько было хлопот со сборами к отъезду, что он встал и вышел на рассвете. Здравствуйте, господа.
– Позвольте пожелать вам доброго утра, – сказал Снитчей. – Это и за себя и за Краггса. (Краггс поклонился). – Целую вашу ручку, – продолжал он, обращаясь к Мери, и поцеловал ручку, – и желаю вам, – желал он или не желал на самом деле, неизвестно: с первого взгляда он не походил на человека, согретого теплым сочувствием к ближнему, – желаю вам еще сто раз встретить этот счастливый день.
Доктор, заложивши руки в карманы, значительно засмеялся. «Ха! ха! ха! Фарс во сто актов!»
– Однако же я уверен, – заметил Снитчей, приставляя небольшую синюю сумку к ножке стола, – вы ни в коем случае не захотите укоротить его для этой актрисы, доктор Джеддлер.
– Нет, – отвечал доктор. – Боже сохрани! Дай Бог ей жить и смеяться над фарсом, как можно дольше, а в заключение сказать с остряком французом: фарс разыгран, oпyскайте занавес.
– Остряк француз был не прав, доктор Джеддлер, – возразил Снитчей, пронзительно заглянувши в сумку, – и ваша философия ошибочна, будьте в этом уверены, как я уже не раз вал говорил. Ничего серьезного в жизни! Да что же по-вашему права?
– Шутка, – отвечал доктор.
– Вам никогда не случалось иметь дело в суде? – спросил Снитчей, обратив глаза от сумки на доктора.
– Никогда, – отвечал доктор.
– Если случится, – заметил Снитчей, – так, может быть, вы перемените ваше мнение.
Краггс, который, казалось, только очень смутно или вовсе не сознавал в себе отдельного, индивидуального существования и был представляем Снитчеем, отважился сделать свое замечание. Это замечание заключало в себе единственную мысль, которая не принадлежала Снитчею; но зато ее разделяли с Краггсом многие из мудрых мира сего.
– Оно стало нынче уж слишком легко, – заметил Краггс.
– Что, вести процесс? – спросил доктор.
– Да все, – отвечал Краггс. – Теперь все стало как-то слишком легко. Это порок нашего времени. Если свет шутка (я не приготовился утверждать противное), так следовало бы постараться, чтобы эту шутку было очень трудно разыграть. Следовало бы сделать из нее борьбу, сэр, и борьбу насколько возможно тяжелую. Так следовало бы; а ее делают все легче да легче. Мы смазываем маслом врата жизни, а им следовало бы заржаветь. Скоро они начнут двигаться без шума, а им следовало бы визжать на петлях, сэр.
Краггс, казалось, сам завизжал на своих петлях, высказывая это мнение, которому наружность его сообщила неимоверный эффект. Краггс был человек холодный, сухой, крутой, одетый, как кремень, в серое с белым, с глазами, метавшими мелкие искры, как будто их высекает огниво. Три царства природы имели каждое своего идеального представителя в этом трио споривших; Снитчей был похож на сороку или ворону (только без лоску), а сморщенное лицо доктора походило на зимнее яблоко; ямочки на нем изображали следы птичьих клювов, а маленькая косичка сзади торчала в виде стебелька.
В это время статный молодой человек, одетый по-дорожному, быстро вошел в сад в сопровождении слуги, нагруженного чемоданом и узелками; веселый и полный надежды вид его гармонировал с ясным утром. Трое беседовавших сдвинулись в одну группу, как три брата Парок, или три Грации, замаскированные с величавшим искусством, или, наконец, как три вещие сестры в степи, – и приветствовали пришедшего.
– Счастливо встречать этот день, Альф, – сказал доктор.
– Встретить его еще сто раз, мистер Гитфильд, – сказал, низко кланяясь, Снитчей.
– Сто раз! – глухо и лаконически проговорил Краггс.
– Что за гроза! – воскликнул Альфред, вдруг остановившись. – Один, два, три – и все предвестники чего-то недоброго на ждущем меня океане. Хорошо, что не вас первых встретил я сегодня поутру, а то это дурная была бы примета. Первую встретил я Грацию, милую, веселую Грацию, – и вы мне не страшны!
– С вашего позволения, мистер, вы первую встретили меня, – сказала Клеменси Ньюком. – Она, извольте припомнить, вышла сюда гулять еще да восхода солнца. Я оставалась в комнатах.
– Да, правда. Клеменси первая попалась мне сегодня навстречу, – сказал Альфред. – Все равно, я не боюсь вас и под щитом Клеменси!
– Ха, ха, ха! – это я за себя и за Краггса, – сказал Снитчей. – Хорош щит!
– Может быть, не так дурен, как кажется, – отвечал Альфред, дружески пожимая руки доктору, Снитчею и Краггсу.
Он оглянулся вокруг.
– Где же…. Боже мой!
И быстрое, неожиданное движение его сблизило вдруг Джонатана Снитчея и Томаса Краггса еще больше, нежели статьи их договора при заключении товарищества. Он быстро подошел к сестрам, и…. впрочем, я лучше не могу передать вам, как он поклонился сперва Мери, а потом Грации, как если замечу, что мистер Краггс, глядя на его поклон, нашел бы, вероятно, что и кланяться стало нынче слишком легко.
Доктор Джеддлер, желая, может быть, отвлечь внимание, поспешил приступить к завтраку, и все сели за стол. Грация заняла главное место, но так ловко, что отделила сестру и Альфреда от остального общества. Снитчей и Краггс сели по углам, поставив синюю сумку для безопасности между собой. Доктор по обыкновению сел против Грации. Клеменси суетилась около стола с какою-то гальваническою деятельностью, а меланхолический Бритн за другим маленьким столиком торжественно разрезывал кусок говядины и окорок.
– Говядины? – спросил Бритн, подойдя к Снитчею с ножом и вилкой в руке и бросив в него лаконичный вопрос, как метательное оружие.