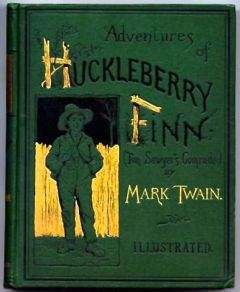— Триста долларов это большие деньги. Вот бы у моей матушки такие были. Значит, ваш муж прямо нынче ночью туда и отправится?
— Ну да. Он пошел в город с тем мужчиной, о котором я говорила, чтобы раздобыть лодку и попробовать занять у кого-нибудь ружье. А после полуночи оба поплывут на остров.
— Может, им стоит дождаться рассвета, днем-то все лучше видно.
— Это верно. Но днем ведь и негру все лучше видно, так? После полуночи он, скорее всего, уже спать будет, и они смогут спокойно обшарить лес, поискать костер, если негр его разжигает, а костер, опять же, в темноте проще найти.
— Об этом я не подумала.
Женщина продолжала с любопытством вглядываться в меня, и мне стало совсем неспокойно. А она вдруг спрашивает:
— Как, ты сказала, тебя зовут, милочка?
— М… Мэри Уильямс.
Я тут же сообразил, что, вроде бы, раньше назвался не так — не Мэри, а Сарой, — и отвел взгляд в сторону; мне стало казаться, что я сам себя в угол загнал, и что она заметит это по моим глазам. Очень мне хотелось, чтобы женщина сказала хоть что-нибудь, — чем дольше она молчала, тем неуютнее я себя чувствовал. Ну, она и сказала:
— Милочка, по-моему, в первый раз ты назвалась Сарой.
— Да, мэм, конечно. Сара Мэри Уильямс. Сара это мое первое имя. Одни зовут меня Сарой, другие Мэри.
— Ах вот оно что?
— Да, мэм.
Мне стало малость полегче, но все равно хотелось побыстрее убраться отсюда. А взглянуть ей в лицо я так и не решился.
Ну вот, а женщина заговорила о том, какие трудные нынче времена, как бедно им с мужем живется, какую волю взяли себе здешние крысы, решившие, видать, что этот дом им принадлежит, — и так далее, и так далее и, в конце концов, я успокоился. Насчет крыс это она правду говорила. Одна из них то и дело выставляла нос из дырки в углу. Женщина сказала, что ей приходится держать под рукой всякие штуки, чтобы бросаться ими в крыс, когда она остается дома одна, иначе они бы ее со света сжили. И показала мне завязанный в узел свинцовый прут, сказав, что обычно ей удается попадать в цель, но пару дней назад она потянула руку и теперь не знает, как у нее это получится. Все же, дождавшись, когда крыса показалась опять, женщина метнула в нее эту штуковину, но здорово промахнулась и вскрикнула «ой!» от боли в руке. А потом попросила, чтобы в следующий раз я попробовала. Мне-то больше всего хотелось убраться отсюда, пока не вернулся ее старик, но я, конечно, виду не подавал. Я взял свинчатку и запустил ею в первую же крысу, какая из дыры нос высунула, и если б она малость задержалась на месте, ей долго пришлось бы здоровье поправлять. Женщина похвалила меня за меткость, сказала, что в следующий раз я уж точно попаду. Она встала, прошла в угол, подняла свинчатку и вернула ее на стол, а потом принесла моток пряжи и попросила меня помочь его размотать. Я поднял перед собой руки, и она принялась обвивать их пряжей, продолжая рассказывать о своих и мужа делах. Но вдруг прервала рассказ и говорит:
— Ты за крысами-то приглядывай. И пусть лучше этот свинец у тебя на коленях полежит, под рукой.
Бросила она свинец мне на колени, я сдвинул ноги, поймал его, а женщина вернулась к своему рассказу. Но всего на минуту. Сняла она с моих рук пряжу, взглянула мне прямо в глаза, ласково так, и говорит:
— Ну, и как же тебя на самом деле зовут?
— Че… что, мэм?
— Настоящее-то твое имя какое? Билл, Том, Боб? Или как?
Я аж затрясся, прямо как лист на ветру, — вконец растерялся и что делать, не знаю. Но все же говорю:
— Пожалуйста, мэм, не смейтесь над бедной девочкой. Если я вам мешаю, так я лучше…
— Нет, не лучше. Сиди, где сидишь. Я тебе ничего плохого не сделаю и доносить на тебя не стану. Ты просто доверься мне, открой твою тайну. Я сохраню ее, больше того, я тебе помогу. И муж мой поможет, если захочешь. Ты же беглый работник, только и всего. А это пустяки. Ничего тут дурного нет. С тобой худо обходились, вот ты и сбежал. И благослови тебя Бог, дитя, я тебя не выдам. А теперь, будь хорошим мальчиком, расскажи мне всю правду.
Ну я и сказал, что больше не хочу притворяться и откроюсь ей, как на духу, но только пусть и она свое слово сдержит. А после стал рассказывать, что родители мои умерли, а меня суд отдал в опеку старому скареде-фермеру, который живет в тридцати милях от реки, и обращался он со мной так паршиво, что я не выдержал и надумал от него сбежать, а тут он уехал на пару дней, и я этим воспользовался — украл старое платье его дочери и смылся, и прошел за три ночи тридцать миль. Я, дескать, шел ночами, а днем прятался где попало и спал, а еще я прихватил с фермы мешочек с хлебом и мясом, ими и кормился, как раз на дорогу хватило. И добавил, что надеюсь на помощь моего дядюшки, Эбнера Мура, потому и пришел сюда, в Гошен.
— Гошен, дитя? Но это не Гошен. Это Санкт-Петербург. До Гошена отсюда десять миль вверх по реке. Кто тебе сказал, что это Гошен?
— Да я сегодня на рассвете повстречал одного дяденьку, как раз перед тем как забраться в лес и поспать, он и сказал мне: как дойдешь до развилки, бери налево и через пять миль будет тебе Гошен.
— Пьян, наверное, был, вот все и перепутал.
— Вообще-то, его и вправду покачивало, ну да что ж теперь. Надо идти. Как раз к утру до Гошена и доберусь.
— Подожди минутку, я соберу тебе немного еды, перекусишь дорогой. Наверняка же есть захочешь.
Ладно, собрала она мне еду, а после и говорит:
— Скажи-ка, если корова на земле лежит, на какие ноги она опирается, чтобы подняться, на передние или на задние? Ну, не задумываясь — на какие? Передние или задние?
— Задние, мэм.
— Хорошо, а лошадь?
— Лошадь на передние, мэм.
— А с какой стороны дерево мхом обрастает?
— С северной.
— Ладно, а вот если пятнадцать коров пасутся на склоне холма, сколько их в одну сторону смотрит?
— Все пятнадцать, мэм.
— Ну хорошо, похоже, ты и вправду на ферме работал. А то я думала, что ты меня опять за нос водишь. Так как же тебя зовут-то, по-настоящему?
— Джордж Питерс, мэм.
— Ладно, Джордж, только ты уж постарайся это запомнить. А то назовешься, прощаясь со мной, Александром, а когда я поймаю тебя на вранье, заявишь, что тебя Джорджем Александром зовут. И старайся не показываться женщинами на глаза в этом твоем старом платьице. Девочка из тебя никудышная, хотя мужчину тебе одурачить, может быть, и удастся. Благослови тебя Бог, дитя, и если снова будешь нитку в иголку вдевать, то не держи кончик нитки неподвижно, и не пытайся надеть на нее игольное ушко, — женщины обычно держат неподвижно иголку, а нитку в ушко вставляют, а мужчины делают наоборот. И когда бросаешь что-нибудь в крысу или еще в кого, привставай на цыпочки, а руку над головой заноси да промахнись футов на шесть-семь. Рука должна быть прямой от плеча, как будто в нем шарнир какой сидит, это только у мальчиков в броске и запястье, и локоть участвуют и руку они при этом за спину заводят. Да, и еще запомни, если девочке бросают что-нибудь на колени, она ловит это, раздвигая их, а не хлопая, как ты, одним о другое. То, что ты мальчик, я поняла еще когда ты нитку в иголку вдевал, все остальное было проверкой — для верности. А теперь топай к своему дядюшке, Сара-Мэри-Уильямс-Джордж-Александр-Питерс, и если попадешь в какую беду, пошли весточку миссис Юдит Лофтус, это я, и я постараюсь тебя вызволить. Держись все время берега реки, да когда отправишься бродяжничать снова, не забудь чулки с башмаками прихватить. Дорога вдоль реки идет каменистая, боюсь, собьешь ты ноги, пока доберешься до Гошена.
Я прошел вверх по реке ярдов пятьдесят, а потом вернулся назад — челнок мой сильно ниже дома стоял. Запрыгнул я в него и давай грести что было мочи. Поднялся вдоль берега вверх по реке, чтобы меня потом на верхний край острова вынесло, а там и пошел поперек течения. Шляпку я выбросил, она мне по сторонам смотреть мешала, точно шоры. Почти добравшись до середины реки, я услышал, как в городе начали бить часы. Я остановился, прислушался, звук был негромкий, но на воде различался ясно — одиннадцать. Высадившись на верхнем краю острова, я, хоть и здорово вымотался к тому времени, но передышки себе не дал, а побежал в чащу, на прежнюю мою стоянку, выбрал там место повыше да посуше и развел на нем большой костер.
Проделав это, я снова запрыгнул в челнок и, вовсю работая веслом, спустился на полторы мили вниз, к нашему лагерю. Выскочил на берег, взобрался по лесистому склону на пригорок и влетел в пещеру. Джим спал. Я растолкал его и говорю:
— Вставай, Джим, да поскорее! Нельзя терять ни минуты. За нами вот-вот придут!
Джим ни о чем спрашивать не стал, даже и слова не произнес, но по тому, как он в следующие полчаса выбивался из сил, видно было, до чего я его перепугал. Через полчаса все наше мирское богатство уже лежало на плоту, оставалось только отплыть из закрытой ивами заводи, в которой он стоял. Горевший в пещере костер мы загасили в самом начале, а после этого даже свечу не зажигали.