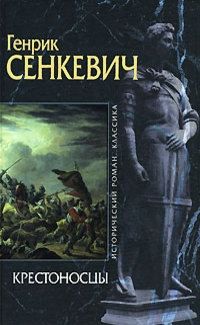– Что Машко такой возможности не исключает, сомнений нет. Вопрос разве в том, обманывает он только тебя, отрицая это, или себя тоже.
– Боже ее упаси от Машко, – промолвила пани Бигель. – Мы все видели, какое большое впечатление она на него произвела.
– Мне всегда казалось, – заметил Бигель, – что для таких людей, как Машко, важней всего состояние, но я могу ошибаться. Может, у него другой расчет: взять жену из хорошей, старинной семьи, умножив тем свои связи, подняв свой престиж, и стать поверенным в делах целого широкого общественного слоя. Расчет вовсе неплохой: если он воспользуется имеющимся у него кредитом, то при своей сноровке сумеет со временем очистить Кшемень от долгов.
– Вы сказали, панна Плавицкая произвела на него большое впечатление, – вставил Поланецкий, – помнится, ее отец тоже об этом поминал.
– Что же теперь делать? – спросила пани Бигель.
– Да ничего. Пусть выходит за Машко, если хочет, – отвечал Поланецкий.
– А вы?
– А я пока что уеду в Райхенгалль.
И правда, через неделю он уехал в Райхенгалль, еще перед тем получив письмо от пани Эмилии, которая справлялась о поездке в Кшемень. На письмо он не ответил, решив рассказать все при встрече. А Машко накануне его отъезда отправился в Кшемень – известие об этом подействовало на Поланецкого сильней, чем можно было ожидать. Он убеждал себя, что уже в Вене забудет об этом, но не мог и, гадая о том, выйдет ли Марыня за Машко, даже послал из Зальцбурга письмо Бигелю, якобы деловое, а на самом деле в надежде что-нибудь разузнать. С пятого на десятое слушал он рассуждения своего попутчика, Васковского, о взаимоотношениях национальностей в Австро-Венгерской империи и о миссии современных народов вообще. Порой, поглощенный мыслями о Марыне, он даже забывал отвечать на вопросы. И удивительное дело: уже не образ ее, а точно она сама, живая, возникала у него перед глазами, до того отчетливо он видел ее. Видел милое, кроткое лицо с красиво очерченным ртом и родинкой над верхней губой, спокойный взгляд ее глаз – внимательный и сосредоточенный, когда она слушала его; видел всю эту стройную, грациозную фигурку, от которой веяло пылким и вместе чистым молодым одушевлением. Вспомнил ее светлое платье и выглядывающую из-под него туфельку, нежные, покрытые легким загаром руки и темные волосы, которыми в саду играл ветерок. Никогда он не предполагал, что воспоминания, причем о человеке, виденном мимолетно, могут быть почти осязаемы. И, почтя это за лишнее доказательство того, сколь глубокое она произвела на него впечатление, никак не мог свыкнуться с мыслью, что оставившее в его душе такой след существо достанется Машко. Ему становилось не по себе, и – в полном согласии с его деятельной натурой – являлось неудержимое желание любой ценой этому помешать. Но он тут же напоминал себе, что добровольно отказался от панны Плавицкой и это вопрос уже решенный.
В Райхенгалль приехали рано утром и в первый же день повстречали пани Хвастовскую с Литкой в городском саду, еще не успев узнать ее адрес. Не ожидавшая их встретить, особенно Поланецкого, пани Эмилия искренне обрадовалась. Радость ее омрачилась лишь одним: Литка, девочка очень впечатлительная, страдавшая астмой и с больным сердцем, обрадовалась еще больше и от сердцебиения и удушья чуть не потеряла сознание.
Но это с ней случалось часто, и, едва приступ прошел, все опять повеселели. По дороге домой девочка не отпускала руки «пана Стахао, время от времени еще крепче ее сжимая, точно желая удостовериться, что он тут, рядом с ней в Райхенгалле, и ее обычно печальное личико освещалось радостью. И Поланецкому не удалось улучить минуту, чтобы поговорить с пани Эмилией, и она тоже не могла его ни о чем расспросить: Литка, без умолку болтая, водила гостя по Райхенгаллю, за один раз пытаясь показать ему все тамошние достопримечательности.
– Это еще что! – твердила она поминутно. – На Тумзее – вот где красиво, но туда мы завтра пойдем. – И переспрашивала: – Мамочка, ты ведь позволишь? Мне уже много можно ходить. А это совсем недалеко. Позволишь, да?
Иногда ж, отстранясь немного и не выпуская руки Поланецкого, взглядывала на него своими большими глазами и повторяла:
– Пан Стах! Пан Стах!
Поланецкий, со своей стороны, обращался с ней с заботливой нежностью старшего брата, лишь по временам добродушно ее удерживая:
– Не спеши, котенок, а то запыхаешься.
– Да ладно вам, пан Стах! – надувая губки, будто с неохотой соглашалась она и прижималась к нему.
Поланецкий нет-нет, да и поглядывал на светившееся радостью лицо пани Эмилии, словно давая ей понять, что хотел бы поговорить. Но безрезультатно: та, не желая огорчать Литку, предпочла отдать их общего друга в ее полное распоряжение. И лишь после обеда в саду, где Васковский среди зелени под чириканье воробьев принялся рассказывать, как любил птиц Франциск Ассизский, и девочка заслушалась, подперев голову рукой, Поланецкий улучил момент.
– Может, пройдемся с вами? – обратился он к Хвастовской.
– С удовольствием, – отвечала та. – Литка, посиди с паном Васковским, мы сейчас вернемся. Ну, что? – спросила она, отойдя на несколько шагов.
Поланецкий начал рассказывать, но то ли, зная утонченную натуру пани Эмилии, побоялся уронить себя в ее глазах, то ли последние размышления о Марыне лиричнее настроили его, только все в его рассказе предстало в ином свете. Ссоры с Плавицким он, правда, от нее не утаил, но умолчал, что и с Марыней обошелся перед отъездом прямо-таки невежливо, зато не поскупился на похвалы ей.
– И так как долг этот с самого начала встал между мной и Плавицким, поведя к размолвке, что не могло не отразиться на наших с панной Марыней отношениях, я решил продать закладную – и продал ее Машко перед отъездом сюда, – закончил он.
– И хорошо сделали. В таких делах не должно быть места никаким денежным соображениям, – с поистине святой простотой заметила пани Эмилия, не имевшая ни малейшего представления о практической жизни.
– Да, конечно!.. Вернее, нет!.. – возразил Поланецкий, устыдясь, что вводит в заблуждение этого ангела. – Мне кажется, я поступил дурно. И Бигель того же мнения. Ведь Машко будет притеснять их, предъявлять разные требования, может продать Кшемень с аукциона… Нет, благородным мой поступок не назовешь, и сблизить он нас не сблизит. Я бы никогда так не поступил, если бы не был убежден, что все это надо выбросить из головы.
– Нет, нет! Не говорите так. Я верю в предопределение, верю, что вы самим небом предназначены друг для друга.
– Это мне непонятно. Выходит, не нужно ничего предпринимать, уж коли мне все равно суждено жениться на панне Плавицкой.
– Нет. Конечно, я со своим женским умом, может быть, говорю глупости, но мне кажется, провидение печется о всеобщем благе, оставляя нам свободу действий, и в мире столько горя как раз оттого, что люди противятся своему предназначению.
– Может, вы и правы. Но и доводам рассудка противиться трудно. Разум – это светоч, данный нам богом. И потом, кто поручится, что панна Марыня пошла бы за меня?
– Странно, что до сих пор нет письма от нее. Пора бы ей уже написать о вашем посещении. Думаю, самое позднее завтра получу от нее весточку – мы пишем друг дружке каждую неделю. Она знает, что вы здесь?
– Нет. Я сам в Кшемене еще не знал, куда поеду.
– Это хорошо. Тем она будет откровенней, хотя и всегда правдива.
На том и кончился в первый день их разговор. Вечером, уступая просьбам Литки, порешили отправиться завтра на Тумзее, – выйти пораньше, пообедать на берегу озера и до захода солнца вернуться в экипаже или, если девочка не очень устанет, пешком. Не было еще девяти, когда Поланецкий в сопровождении Васковского приблизился к вилле, где жила с дочкой пани Эмилия. Обе, уже готовые, поджидали их на террасе, являя собой такое восхитительное зрелище, что даже старик Васковский умилился.
– Создает же господь бог людей по образу и подобию цветов! – промолвил он, указывая на мать с дочкой.
Недаром в Райхенгалле все ими восхищались. Пани Эмилия со своим одухотворенным ангельским личиком была воплощением материнской любви, нежности и самоотверженности; при виде больших, печальных Литкиных глаз, белокурых волос и тонких, точеных черт казалось, что это не живая девочка, а произведение искусства. Декадент Букацкий говорил про нее: она соткана из тумана, чуть тронутого розовым светом зари. В ней и впрямь было что-то неземное, а болезнь, чрезмерная впечатлительность и экзальтированность лишь подчеркивали это. Мать души в ней не чаяла, знакомые тоже, но общая любовь не испортила эту добрую от природы девочку.
В Варшаве Поланецкий по нескольку раз в неделю бывал у них, искренне привязавшись к обеим. В городе женская честь уважается меньше, чем где бы ни было, и эти частые посещения тоже послужили поводом для сплетен – совершенно необоснованных: пани Эмилия была чиста, как дитя, и в ее восторженной головке не умещалась сама мысль о пороке. Она была столь невинна, что не догадывалась даже считаться с так называемыми условностями. Радушно принимая всех, кого любила Литка, она отказалась от нескольких выгодных партий, дав ясно понять, что живет лишь ради дочери. Один только Букацкий осмеливался утверждать, будто испытывает к ней нежные чувства. Для Поланецкого же эта кристально чистая женщина находилась на такой недосягаемой высоте, что даже намека на любовное влечение не закрадывалось в его отношение к ней. И сейчас на замечание Васковского он отозвался простодушно: