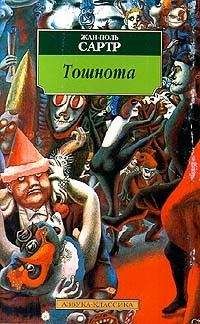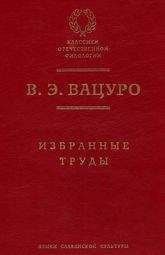Я пошел по тихой улице Брессан. Солнце разогнало облака, был погожий день. Из виллы «Волна» вышло семейство ее обитателей. Дочь, сойдя на тротуар, застегивала перчатки. Ей можно было дать лет тридцать. Мать, стоя на нижней ступеньке лестницы, уверенно глядела вперед, всей грудью вдыхая воздух. Отец повернулся ко мне своей необъятной спиной. Склонившись над замочной скважиной, он запирал дверь на ключ. Теперь до их возвращения дом будет пустым и темным. В соседних домах, уже запертых и опустелых, тихо поскрипывает мебель и половицы паркета. Перед тем как уйти, хозяева потушили камин в столовой. Отец нагнал двух женщин, и семейство безмолвно двинулось в путь. Куда они шли? По воскресеньям бувильцы посещают величественное городское кладбище или наносят визит родственникам, а тот, кто свободен от всех обязательств, прогуливается по молу. Я был свободен – я зашагал дальше по улице Брессан, которая выходит на мол.
Небо было бледно-голубым: где-то дымок, где-то перистое облачко, иногда солнце скрывала набежавшая тучка. Издали мне виден был белый цементный парапет, ограждающий мол, сквозь просветы в нем сверкало море. Семейство свернуло направо, на улицу Казначея Илера, которая уходит вверх по Зеленому Холму. Я видел, как вся троица медленно преодолевает высоту – три черные точки на поблескивающем фоне асфальта. Я свернул налево и влился в толпу, прогуливающуюся вдоль моря.
Толпа была более разношерстной, чем утром. Казалось, все эти люди уже не в силах соблюдать безупречную социальную иерархию, которой они так гордились до обеда. Теперь бок о бок шли коммерсанты и чиновники; они мирились с тем, что с ними рядом идут, иногда даже наталкиваются на них и оттесняют, мелкие служащие невзрачного вида. В теплой массе толпы растворились аристократизм, принадлежность к избранному обществу, к профессиональным группам. Остались просто люди, они больше не представительствовали.
Лужа света вдали – это море при отливе. Несколько отмелей дырявили его светлую поверхность, не выступая над уровнем воды. На песке лежали рыбачьи лодки неподалеку от осклизлых каменных глыб, сваленных как попало к подножию мола, чтобы защитить его от волн, – в зазорах между ними вскипала вода. У входа во внешний порт на выбеленном солнцем небе вырисовывалась тень землечерпалки. Каждый вечер до полуночи она воет и стонет. Но в воскресенье рабочие прогуливаются по земле, а на ее борту остается только сторож – и она затихает.
Солнце было светлым и прозрачным – ни дать ни взять белое вино. Его свет едва касался человеческих тел, лишая их тени и объема – лица и руки казались бледно-золотистыми пятнами. И чудилось, будто все эти люди в пальто тихо плывут в нескольких сантиметрах над землей. По временам ветерок нагонял на нас колышущиеся, как вода, тени, лица на мгновение гасли, приобретали оттенок мела.
Было воскресенье; стиснутая между парапетом и загородными шале, толпа струилась мелкими волнами, растекаясь тысячью ручейков позади большого здания отеля Трансатлантической кампании. Сколько детей! Дети в колясках, дети на руках, их ведут за руку, или они по двое, по трое чопорно вышагивают впереди своих родителей. Всего несколько часов назад, когда воскресное утро было еще совсем юным, я видел на этих лицах чуть ли не победное выражение. Теперь же, освещенные солнцем, они выражали только размягченное спокойствие и своего рода целеустремленность.
Жесты сведены к минимуму – издалека еще приподнимались шляпы, но в движениях не было утренней широты и радостного возбуждения. Подняв голову, глядя вдаль, отдаваясь на волю ветра, который раздувал их пальто и толкал в грудь, все они шли, слегка откинувшись назад. Время от времени прорывался короткий, тут же заглушаемый смех, крик матери: «Жанно, Жанно, что ты делаешь!» И потом – тишина. Легкий запах светлого табака – его курят мелкие чиновники. «Саламбо», «Айша» – воскресные сигареты. На некоторых лицах, более расслабленных, я как будто уловил налет грусти; но нет, эти люди не были ни веселы, ни грустны – они отдыхали. Их широко открытые, остановившиеся глаза безучастно отражали море и небо. Скоро они разойдутся по домам, в кругу семьи за обеденным столом выпьют по чашке чаю. А сейчас они хотят расходовать себя как можно меньше, хотят, экономя жесты, слова, мысли, плыть по течению. В их распоряжении всего один день, чтобы стереть морщины, гусиные лапки, горькие складки – плоды рабочей недели. Всего один день. Они чувствовали, как минуты утекают у них между пальцами. Успеют ли они набраться молодости, которой хватило бы, чтобы завтра начать сначала? Они дышали полной грудью – ведь морской воздух бодрит; их дыхание, равномерное и глубокое, как у спящих, одно только и свидетельствовало о том, что они живы. Я шел крадучись, я не знал, что мне делать с моим крепким и свежим телом среди этой трагической толпы, которая отдыхала.
Теперь море приобрело аспидный оттенок, потихоньку начинался прилив. К ночи прилив усилится. Нынче ночью мол станет еще более пустынным, чем бульвар Виктора Нуара. Впереди и слева загорится по фарватеру красный огонь.
Солнце медленно садилось в море. По пути оно зажгло заревом окна нормандского шале. Ослепленная его блеском женщина устало поднесла руку к глазам и покачала головой.
– Гастон, мне слепит глаза, – сказала она с неуверенным смешком.
– Не беда! Славное солнышко, – ответил ее муж. – Не греет, а все же приятно.
– Я думала, его будет видно, – продолжала она, обернувшись к морю.
– И не надейся, – сказал мужчина. – Солнце мешает.
Они, наверно, говорили об острове Кайбот, его южная оконечность должна была быть видна между землечерпалкой и набережной внешнего порта.
Свет стал мягче. В этот зыбкий час что-то предвещало вечер. У воскресенья уже появилось прошлое. Виллы и серый парапет казались свежими воспоминаниями. Лица одно за другим теряли свой праздный вид, приобретали почти нежное выражение.
Молодая беременная женщина опиралась на руку белобрысого парня с грубым лицом.
– Вот-вот, погляди, – говорила она.
– Чего там?
– Вот они, вот, чайки.
Он пожал плечами – никаких чаек не было. Небо почти совсем очистилось, слегка розовея на горизонте.
– Я слышала их. Вот же. Они кричат.
– Просто скрипнуло что-то, – отвечал он.
Вспыхнул газовый рожок. Мне показалось, что прошел фонарщик. Дети подстерегают его приход – это сигнал к возвращению домой. Но то был последний отблеск солнца. Небо еще оставалось светлым, но землю окутал сумрак. Толпа редела, стал отчетливо слышен рокот моря. Молодая женщина, опершись обеими руками о парапет, подняла к небу синее лицо, перечеркнутое черным – губной помадой. На мгновение я подумал: уж не полюблю ли я людей. Но в конце концов, это ведь их воскресенье, не мое.
Первым из всех огней загорелся маяк на острове Кайбот; остановившийся рядом со мной мальчуган восторженно прошептал: «Ой! маяк!»
И сердце мое наполнилось великим предчувствием приключения.
Сворачиваю налево и по Парусной улице возвращаюсь на Маленькую Прадо. Железные щиты на витринах опущены. Улица Турнебрид освещена, но безлюдна, она утратила свою недолгую утреннюю славу: в этот час она ничем не отличается от соседних улиц. Поднялся довольно сильный ветер. Я слышу, как громыхает жестяная шляпа архиепископа.
Я один, большинство бувильцев разошлись по домам, они читают вечернюю газету, слушая радио. Окончившееся воскресенье оставило у них привкус пепла, их мысли уже обращены к понедельнику. Но для меня не существует ни понедельников, ни воскресений – просто дни, которые толкутся в беспорядке, а потом вдруг вспышки, вроде нынешней.
Ничто не изменилось, и, однако, все существует в каком-то другом качестве. Не могу это описать: это как Тошнота, только с обратным знаком, словом, у меня начинается приключение, и когда я спрашиваю себя, с чего я это взял, я понимаю, в чем дело: Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СОБОЙ И ЧУВСТВУЮ, ЧТО Я ЗДЕСЬ; ЭТО Я прорезаю темноту, и я счастлив, точно герой романа.
Что– то должно случиться: что-то ждет меня на улице Бас-де-Вьей; вон там, на углу этой тихой улицы, и начнется моя жизнь. И я иду вперед с ощущением неотвратимости. На углу улицы виднеется что-то похожее на белую тумбу. Издали она казалась черной, а теперь с каждым шагом становится все белее и белее. В этом темном теле, которое мало-помалу освещается, есть что-то необыкновенное, когда оно станет совсем светлым, совсем белым, я остановлюсь с ним рядом, и вот тут-то и начнется приключение. Этот белый, выступающий из темноты маяк, уже так близко, что мне почти страшно, -я едва не повернул обратно. Но чары разрушать нельзя. Я иду вперед, протягиваю руку, касаюсь тумбы.
Вот она, улица Бас-де-Вьей, и притаившаяся в тени громада Святой Цецилии, окна которой освещены. Громыхает жестяная шляпа. Не знаю, в самом ли деле мир вдруг уплотнился или это я слил звуки и формы в нерасторжимом единстве и даже представить себе не могу, что то, что меня окружает, может быть чем-то еще, а не тем, что оно есть.