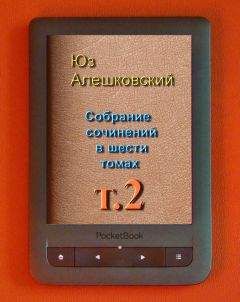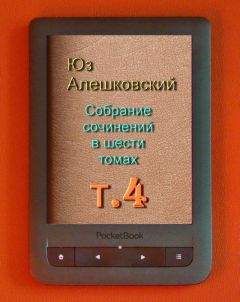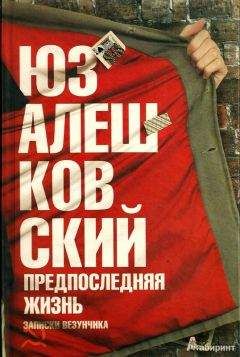Между прочим, в двухэтажке нашей «белоснежки» лет тридцать назад, плодотворно уединившись от всех сует на белом свете, гостил и скрипел перышком Иосиф Бродский. За ужином я не пил ни пива, ни виски. Ночью, тем не менее, проснулся – разбудила неясная тревога непохмельного происхождения: на кухне явно кто-то возился. Я поспешил на первый этаж – возможно, выпивавшие забыли закрыть входную дверь, ну и мало ли, думаю, какая ночная зверюшка, вроде знакомых мне енотов, ищет теперь вот объедки и норовит пробраться в холодильник. Я не мог отыскать выключатель, с детства побаиваясь темноты, затопал ногами и в тот же миг был невидимо, неслышно, неосязаемо обдан воздушной волной, моментально же свалившей, вероятно, в иные измерения. Только нежелание разбудить друзей и жену Иру удержало меня от радостного вопля: «Жозеф!!!» Воздушная волна, несомненно, являлась привидением поэта, но не от того, что я суеверил во все такое, начитавшись в юности Оскара Уайльда, – волна, настырно заявляю, могла быть не чьим-то там привидением, а именно Бродского, вот и все. Иначе с чего бы это я потом не дрых всю ночь, как будто захмелев от крепости поэтического вдохновения? То-то и оно-то, как говорят японцы, не знающие русского, верней, наоборот. И с чего бы это мне, добавлю, подуставшему за день, предвиделось в бессонной ночи многое из еще не увиденного в тех благословенных краях, что вовсе не являлось следствием мимолетных заглядываний в путеводители. Тогда чего только не пронеслось передо мною: поездки в соседние городки с развалинами храмов чуть ли не первых христиан… просто бродяжничанье по прибрежным – высоко над стихиями океана – тропам… любование красочными россыпями знакомых и незнакомых полевых цветов… рассматривание давно заброшенных, ныне музейных медных копей… сидение в местной таверне, предлагающей пуритански скромные, примитивно состряпанные блюда и местное же пиво, невзрачное на вкус… прогулки не вдоль худосочных травянистых лугов, но царственно роскошных пастбищ, вечно подпитываемых водами, непонятно (мне, невежде) как ставшими пресными в почвах полуострова, окруженного водами солеными… На почвах еще безоблачна жизнь набирающих вес барашков, левей – бычки резвятся, правей – величественно царствуют дойные коровушки, и от вида их вспоминается восторг Гете: «Нет для меня на земле вида прекраснее, чем на лугу корова»…
А вот и дом, и сад, и мастерская – повсюду монументально отлитые в бронзе и сравнительно миниатюрные создания всемирно знаменитого скульптора Барбары Хэпуорт, подруги Наума Габо, дружившей с Генри Муром и другими гениями авангардизма. Все они, подумаю позже, задиристо пытались внести нечто новое в традиционное понимание Красоты, типа «сбросить Пушкина с корабля современности», а Она до сих пор не поддается никаким формулированиям, скромно торжествуя над всеми попытками гениев (само собой, сворой шарлатанов) изуродовать ее, точней, разбожествить. Ирония-то, думалось, истории искусств в том, что не фантастически абстрактные создания Барбары Хэпуорт, а природные материалы, разбожествить которые невозможно: металл, мрамор, гранит, древесина – превращали напрасные умственные попытки гениев абстракционизма вкупе с их божественными дарованиями в совершенно невиданные лики Красоты…
Короче, продрав «дзенки» после мимолетной свиданки с привидением, я уже нисколько не удивился еще одному явлению парности случаев: кофейничая, подлинный друг, многолетняя соседка, попутчица поэта в здешних странствиях, Марго, Маргуша, пошутила, что теперь эти края будут связаны сразу с двумя авторами романов «Кенгуру»: Лоуренсом и Юзом – ну не мистика ли это?
Я немного заговорился, и, конечно, многое из пригрезившегося было всего лишь предвосхищением впечатлений – предвосхищением, безусловно, навеянным привидением Поэта, всегда обожавшего прививать друзьям и знакомым ту вечную привязанность ко всему прекрасному, что именуется любовью.
Словом, не обязательно быть мистиком, чтобы потрястись: когда мы вернулись в нашу деревню, Ира, еще не передохнув, почему-то заглянула в свежий номер любезного ей журнала New Republic и тут же перевела мне несколько строк из стихотворения о Корнуэлле:
Слово упало в туман,
Как детский мяч в высоту.
И там осталось, то исчезая, то сверкая, то маня золото,
Которое при близком рассмотрении…
Я и потрясся, потому что парность случаев есть знак правильности течения реки его, твоей, моей жизни. К тому же в глазах все еще ослепительно желтело чистое золотце полевых корнуэлльских лютиков… лютиков… лютиков… Больше того, под стихотворением стояла, в виде ехидного намека, подпись: Луиза Глюк – да, да, не Смит, не Джонсон, не Тейлор, а именно Глюк, хотя, если бы привидение Бродского было всего лишь шизоватым глюком, уверен, ни строчки не начирикал бы я о нашем путешествии – ни строчки.
Фото: Иллюстрации: Холя Кривушева
Э Х О «К О Ш А Ч Ь Е Г О "М Я У"»
Иосиф Бродский был не только гениальным поэтом, обычно державшим рядышком с пачкой сигарет связку золотых ключиков от самых потаенных сокровищниц Языка и Словесности, навек помолвленных друг с другом, как и сам он – с Музой поэзии и любомудрия, но – сие очевидно – был он личностью, свыше одаренной способностью проникать без «аквалангистской» дыхательной смеси в придонные, немыслимо плотные метафизические глубины времени, бесконечного и конечного, линейного и нелинейного, взаимоотношений духа и материи, вероятности, хоть как-то поддающейся математике, и т. д. и т. п., а также госпожи Случайности. Вот уж кого-кого, а ее, всегда абсолютно свободную, неподвластную даже Высшим Силам, видимо поэтому Ими обоготворяемую, Иосиф Бродский как поэт – исследователь трагизма существования и, смело скажу, как античный мыслитель плюс наш современник – принципиально не увязывал с общеизвестной, дьявольски лукавой философской категорией «историческая необходимость», увы, исправно служащей в наши якобы просвещенные времена циничным адвокатом чудовищных тираний.
Сие губительно безответственное увязывание свойственно не только нынешним тиранам и тиранчикам, но и почти всему западноевропейскому философскому мышлению, особенно марксистскому; а уж оно и сегодня, намеренно не желая понимать природу всемирного зла, бесчинствующего исключительно по воле гомо сапиенс, помогает своим властительным клиентам перекладывать их собственную вину за терроры, мировые бойни, глобальную коррупцию, извращение правосудия и прочие злодеяния – на фантомальную историческую необходимость, словно бы по-станиславски вжившуюся в роль трагической Неизбежности.
Достаточно прочитать или вновь перечитать небольшое эссе И. Б. «Кошачье "Мяу"», чтобы понять, чтобы почувствовать: истинно поэтически мыслящий философ всегда ставит перед собой неразрешимые мировые вопросы, бесстрашно при этом признаваясь в невозможности дать ясный, как математическая формула, ответ на каждый из них, однако необъяснимо вдохновляя счастливого читателя священным волнением, родственным волнению каждого подлинного художника, сотворившего нечто прекрасное, но остающегося в неведении насчет сущностной природы Красоты.
Иными словами, Поэзия, великим жрецом которой всегда будет Иосиф Бродский, кажется мне одной из ипостасей дивной Двоицы, воедино с Языком бытийствующей, подобно Времени-Пространству; она – великий неразрешимый Вопрос, вместе с тем и Ответ, выражаемый душой с помощью боговдохновенных слов, высказываемых истинными поэтами.
Не знаю, так оно или иначе, но однажды я шутливо поинтересовался: «Ты, кстати, осознаешь себя гением?» – на что поэт (он был убежден в медиумности задачи своего пожизненного – как видим, и посмертного – труда) ответил с той искренностью, что всегда дарует действительно скромным людям ощущение небесно-невесомой легкости: «Клянусь, ну абсолютно ни хрена такого не осознаю, только чувствую вдохновенье… Мяу!» Он часто и по разным поводам произносил сие кошачье «слово», родственное его натуре, желавшей отдохнуть от словесности чисто по-кошачьи – на спасительно бескрайней свободе…
Воспоминания воспоминаниями, но при чтении стихотворений или эссе поэта-мыслителя душа, намного опережая сознание, отказывается принимать законы Бытия, определяющие основоположные порядки жизни и смерти. Вопреки им и благодаря ей, душе, великой жрице тайноведения, Иосиф, Жозеф, повторюсь уж, воистину жив, причем не в известном традиционном смысле, обожаемом, как бы то ни было, нашим ограниченным разумом, а в смысле ином, несравненно более высоком и глубоком, чем тот, к которому, видать, вообще не может быть допущен человеческий разум.
«Кошачье "Мяу"» – не случайное для поэта название эссе: оно явно выражает его – одного из подлинных пророков Красоты, всегда спасавшей мир, вроде бы еще спасать не перестающей, – недоумение, непонимание, подчас и ужас, вызванные абсурдностью опошления самими недальновидными людьми ценностей цивилизации, всячески исхитряющейся не попасть под контроль своих хозяев – ею облапошенных терновых венцов Творенья.