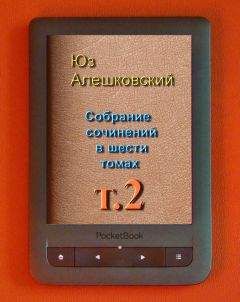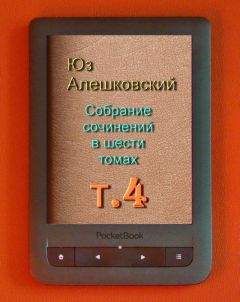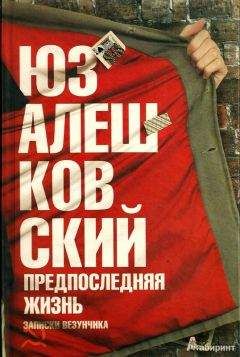Затем, явно чувствуя себя в этом сортире как в личной артистической уборной, он расположился у рукомойника с баночками, бутылочками, ватными тампончиками и прочими орудиями приведения в порядок своего талантливого лица, слегка утомленного, что уж говорить, пребыванием в непростой роли, но весьма довольного деловой удачей.
Бессознательно уподобившись фирменной цапле, то есть стоя на одной ноге перед слишком, на мой взгляд, массивным, похожим на вертикально установленную ванну для тощего мужчины, писсуаром, я размышлял о великолепии соответствия роскошному дару свободы, то есть об умении некоторых людей быть при любых обстоятельствах людьми не скованными никем и ничем, кроме нескольких библейских заповедей…
Должно быть, артисту и в голову не могло придти, что кто-то настырно выслеживает его с самого утра. Еще минута – и я поперся бы наконец на вокзал, хотя бес любопытства так и подбивал меня задать молодому человеку пару вопросов. Но если уж в Штатах и вообще на Западе не принято расспрашивать даже знакомых миллионеров о заработках, состоянии дел, особенностях бизнеса, тонкостях заполнения налоговых бумаг и так далее, то лезть со всем этим в душу мистера Попрошайера… Наверняка это считается неприличным даже на замечательном – судя по жизнерадостности умывающегося рядом человека – и натуральном дне жизни.
Почему-то я никак не мог отойти от писсуара, вымыть руки и направится наконец на вокзал. На меня просто напал столбняк, хотя затылком я уже чувствовал за собой чье-то крайне нетерпеливое дыхание и раздраженное переступание с ноги на ногу…
Вот этот перевоплощенец включил фен. Вот зашелестели в просушенных его руках пересчитываемые баксы. Именно такой характерный звук издают бумажные денежки, со свойственной мне страстью праздно анализировать жизненные наблюдения, когда человек, собираясь раскошелиться, как бы торгуется сам с собой.
В следующий миг я почувствовал, как, проходя мимо и обдав меня волной одеколона «Курортный» (безошибочно узнаю этот запашок после частого распития сей пакости во флотском учебном отряде), он что-то сунул весьма, заметим, резко и, скорей всего, брезгливо в мой задний карман.
Не успел я опомниться от жгучего стыда, страшного подозрения и закипающего на нем возвышенного негодования, как при выходе из сортира эта беззаботная певчая птица, нисколько не стесняясь товарищей по нужде и словно пробуя на вкус мелодию, сначала просвистела, а потом пропела на чистом нашем великом и могучем слова необыкновенно лукавой песни сталинских времен:
«я другой такой страны не знаю,
где так вольно дышит человек…»
Из уст моих так громко вырвался хорошо знакомый всем русским людям возглас изумления, повторить который в печатном тексте совершенно, к сожалению, невозможно, даже при моей не запятнанной пуританским ханжеством репутации сквернослова…
Через двадцать минут мы уже сидели втроем в дешевом китайском ресторанчике на Третьей авеню. Я захватил туда бутылку виски «Джей Би», в кругу друзей поэта до сих пор называемого «Иосифом Бродским». В заведениях, не имеющих прав на торговлю спиртным, не запрещается приносить с собой и распивать спиртные напитки.
Я уже успел принять извинения Саши, закономерно, какой выразился, принявшего меня за интеллигентного рэкетира, ненавязчиво ожидающего минуты получения своей доли с доходного бизнеса. Разумеется, я возвратил сунутые мне в задний карман 7 баксов. Тем же семью измятыми бумажками.
Мне ничего не пришлось выпытывать у своих новых знакомых – замечательных актеров одного из московских театров, приехавших в Нью-Йорк пару недель назад по приглашению старых друзей. Вот что было мне охотно рассказано.
Паломничество на Бродвей они совершили в первый же вечер. Билеты на любой из мюзиклов были им не по карману. Да они о них и не мечтали точно также, как о покупке нового «Джиппа». Просто побродили по театральной Мекке нашей планеты, окутанной пьянящей дымкой предвосхищения зрелищ, с благоговением поглазели на афиши и всегда любезную актерской душе суету толп меломанов и фанатов созвездий знаменитостей.
Затем поканали по легендарной 42-й стрит к не менее известной Пятой авеню. Саша слегка расслабился от впечатлений дня и вечера. Забыл, естественно, инструкции друзей и наставления людей с поучительным опытом прогулок по городу Желтого Дьявола. И как житель страны, испытывающей вечный дефицит даже в самом ничтожном ширпотребе, позарился на десятидолларовыв «котлы» – гонконгскую имитацию «Роллекса». Вытащил из кармана, отсчитывая баксы, всю жалкенькую валютенку, выданную родимой сверхдержавой двум своим поданным. И – все. Через пять минут стало ясно, что их неначавшееся путешествие по Америке трагически закончено. «М-да, щипачитут высокого класса. Я даже не рюхнулся», – сказал Саша.
«Мы из-за этой шляпы остались без единой копейки и тащились в Бруклин пешкодралом, – сказала Зоя, – но вы знаете, на душе у меня при всем при этом было не так мерзковато, как после грабительского распоряжения премьера Павлова.
Представляете, сей финансист обчистил даже стариков, поднакопивших деньжат, на собственные похороны и поминки… Не нам было горевать. Мы шли и напевали дурацкий куплетик:
«действительно, действительно.
Все в жизни относительно…»
«Утром дикое меня разобрала ярость, – сказал Саша, – Говно, думам, буду я полное, если на свободе не пошевелю рогами. Зою расстроил, в долг там набрали хрен знает сколько, надеялись отмазаться видиком, да и здесь неохота было висеть на шве у друзей… Я – натуральный лох. Зойка рыдает, что пойдет на панель или добьется позирования у Эрнста Неизвестного. Ну уж нет, говорю, такого не будет даже через мои труп. Надрался с горя и, к счастью, вспомнил любимого своего О. Генри. Нет, думаю, на свободе я пропадать не желаю. Свобода – это, кроме всего прочего, выбор возможностей. Я ведь, раззява, артист, а не шляпа, полная говна собачьего. Стою я все ж таки тут чего-нибудь или не стою, елки-палки-моталки? Свобода и полное отчаяние с адской безнадегой, скажу я вам, включают в таком человеке, как я, все запасные и тайные источники энергии. Вот я взял и предпринял все это дело. Врежем, давай, за свободу!.. Остальное ты видел своими глазами. Я ведь тебя засек в последний момент. Думал, что ты мелкий рэкетир и спокойно решил отстегнуть двадцатник, хотя была у меня мыслишка послать твою неприятную личность в нокаут челюстью о писсуар. Кстати, зачем им при малой нужде, такие громадные керамические вмятины в стене – не понимаю… В общем, я принял компромиссное решение и отстегнул тебе как рэкетиру в нажопник 7 рэ… А ты, оказывается, решил поездить эдаким вот шикарным образом по Европе? Почему нет? Вали, мне даже авторских не надо. С меня хватит твоего признания и неподдельной творческой зависти. Спасибо, старик. А вот Зойке мое предпринимательское представление было не по душе. Настоящая нищета, говорит, это одно, это судьба, а нищенство, даже если оно таков вот артистически фокусническое, – совсем другое… Нет, отвечаю, несчастную нашу Россию больше полвека почище грабили, чем нас с тобой, и почище над ней измывались, и отчаяние ев с безнадего поглубже нашего, а вот пахнуло слегка свободой, защекотало слегка в ноздре народной соломинкой надежды и поперла изо всех щелей и загонов эта самая энергия веселого, духовитого предпринимательства вместе с верою в жизнь, в интерес и в случай. Лишь бы не мешали отчаявшимся людям, лишь бы подножки им не ставили старые дикообразы Системы, лишь бы рэкетиры всех мастей, в том числе и налоговой, имели совесть, паскуды, удовольствоваться пристойной долей, а не выгребали бы из чужих шляп всю милостыню случая и жизни. А сограждане мои, между прочим, не нищенствуют. Они пирожки пекут, носки вяжут, поросят чуть лине в ванных выкармливают к Седьмому Ноября и к Новому Году, один презерватив из трех воздушных шариков выкраивают, с детсадиками частными химичат, шашлыки захремачивамт, посредничамт, театрики в подвальчиках пооткрывали, туфельки на улицах ремонтируют и так далее. И первый враг, Зоя, энергии выживания – уныние. Враг номер 2 – тупая злоба тех, кому выгодна наша нищета, тех, кто сначала завел обессиленную страну в тупик, а потом пустил нас с тобой по миру без кола, без двора. А теперь вот, когда вроде бы дальше некуда, это они, пропадлины, мешают нам подняться – ну просто никак не дает обществу встать на йоги драконовская всякая коммуняка. Но я вот с друзьями и там со скрипом в занемевших костях разгибаюсь, и здесь постарался не пропасть. И было у меня для спасения всего-навсего свобода да с херову душу собственности. То есть ковбойское старье, куплетном на блошаке на взятый в дол червонец, грим, выданный другом и картон от винных ящиков. А Россия – защити мы только от всякой сволочи нашу свободу и право на собственность, то есть на то, что отныкано было у наших дедов и отцов в семнадцатом, – да сходу Россия перестанет попрошайничать на Западе, а через пятилетку никому уже не покажется нищенкой, уныложопо сидящей на неслыханных природных дарах и сокровищах. И сама еще великодушно подаст нуждающимся, а не паразитине какой-нибудь краснорылой, вроде эфиопских или кубинских партийных царьков. Врежем, давайте, за свободу частного предпринимательства и уважение к собственности! Потом мы двинемся в Ситибанка – мелочугу на бумажки обменяем…»