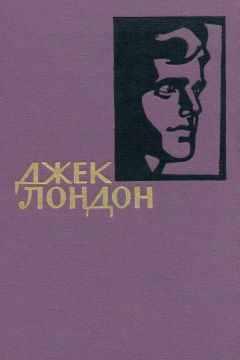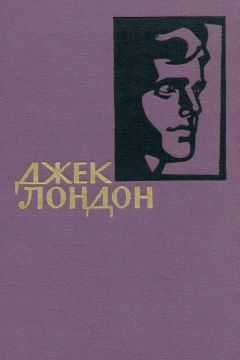«Что мог извлечь этот человек из работ Спенсера?»— подумал я. Достаточно хорошо помня учение этого философа, я знал, что альтруизм лежит в основе его идеала человеческого поведения. Очевидно, Волк Ларсен брал из его учения то. что отвечало его собственным потребностям и желаниям, отбрасывая все, что казалось ему лишним.
___ Что же еще вы там вычитали? — спросил я.
Он сдвинул брови, видимо, подбирая слова для выражения своих мыслей, остававшихся до сих пор не высказанными. Я чувствовал себя приподнято. Теперь я старался проникнуть в его душу, подобно тому как он привык проникать в души других. Я исследовал девственную область. И странное — странное и пугающее — зрелище открывалось моему взору.
— Коротко говоря,— начал он,— Спенсер рассуждает так: прежде всего человек должен заботиться о собственном благе. Поступать так — нравственно и хорошо. Затем, он должен действовать на благо своих детей. И, в-третьих, он должен заботиться о благе человечества.
— Но наивысшим, самым разумным и правильным образом действий,— вставил я,— будет такой, когда человек заботится одновременно и о себе, и о своих детях, и обо всем человечестве.
— Этого я не сказал бы,— отвечал он.— Не вижу в этом ни необходимости, ни здравого смысла. Я исключаю человечество и детей. Ради них я ничем не поступился бы. Это все слюнявые бредни — во всяком случае для того, кто не верит в загробную жизнь,— и вы сами должны это понимать. Верь я в бессмертие, альтруизм был бы для меня выгодным занятием. Я мог бы черт знает как возвысить свою душу. Но, не видя впереди ничего вечного, кроме смерти, и имея в своем распоряжении лишь короткий срок, пока во мне шевелятся и бродят дрожжи, именуемые жизнью, я поступал бы безнравственно, принося какую бы то ни было жертву. Всякая жертва, которая лишила бы меня хоть мига брожения, была бы не только глупа, но и безнравственна по отношению к самому себе. Я не должен терять ничего, обязан как можно лучше использовать свою закваску. Буду ли я приносить жертвы или стану заботиться только о себе в тот отмеренный мне срок, пока я составляю частицу дрожжей и ползаю по земле,— от этого ожидающая меня вечная неподвижность не будет для меня ни легче, ни тяжелее.
В таком случае вы индивидуалист, материалист и, естественно, гедонист.
— Громкие слова! — улыбнулся он.— Но что такое «гедонист»?
Выслушав мое определение, он одобрительно кивнул головой.
— А кроме того,— продолжал я,— вы такой человек, которому нельзя доверять даже в мелочах, как только к делу примешиваются личные интересы.
— Вот теперь вы начинаете понимать меня,— обрадованно сказал он.
— Так вы человек, совершенно лишенный того, что принято называть моралью?
— Совершенно.
— Человек, которого всегда надо бояться?
— Вот это правильно.
— Бояться, как боятся змеи, тигра или акулы?
— Теперь вы знаете меня,— сказал он.— Знаете меня таким, каким меня знают все. Ведь меня называют Волком.
— Вы — чудовище,— бесстрашно заявил я,— Калибан, который размышлял о Сетебосе и поступал, подобно вам, под влиянием минутного каприза.
Он не понял этого сравнения и нахмурился; я увидел, что он, должно быть, не читал этой поэмы.
— Я сейчас как раз читаю Браунинга,— признался Ларсен,— да что-то туго подвигается. Еще недалеко ушел, а уже изрядно запутался.
Ну, короче, я сбегал к нему в каюту за книжкой и прочел ему «Калибана» вслух. Он был восхищен. Этот упрощенный взгляд на вещи и примитивный способ рассуждения был вполне доступен его пониманию. Время от времени он вставлял замечания и критиковал недостатки поэмы. Когда я кончил, он заставил меня перечесть ему поэму во второй и в третий раз, после чего мы углубились в спор — о философии, науке, эволюции, религии. Его рассуждения отличались неточностью, свойственной самоучке, и безапелляционной прямолинейностью, присущей первобытному уму. Но в самой примитивности его суждений была сила, и его примитивный материализм был куда убедительнее тонких и замысловатых материалистических построений Чарли Фэрасета. Этим я не хочу сказать, что он переубедил меня, закоренелого или, как выражался Фэрасет, «прирожденного» идеалиста.
Но Волк Ларсен штурмовал устои моей веры с такой силой, которая невольно внушала уважение, хотя и не могла меня поколебать.
Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал проявлять беспокойство, и когда Томас Магридж, злой и хмурый, как туча, заглянул в кают-компанию, я встал, собираясь приступить к своим обязанностям. Но Волк Ларсен крикнул Магриджу:
— Кок, сегодня тебе придется похлопотать самому, Хэмп нужен мне. Обойдись без него.
И снова произошло нечто неслыханное. В этот вечер я сидел за столом с капитаном и охотникам, а Томас Магридж прислуживал нам, а потом мыл посуду. Это была калибановская прихоть Волка Ларсена, и она сулила мне много неприятностей. Но пока что мы с ним говорили и говорили без конца, к великому неудовольствию охотников, не понимавших ни слова.
Три дня, три блаженных дня, отдыхал я, проводя все свое время в обществе Волка Ларсена. Я ел за столом в кают-компании и только и делал, что беседовал с капитаном о жизни, литературе и законах мироздания. Томас Магридж рвал и метал, но исполнял за меня всю работу.
— Берегись шквала! Больше я тебе ничего не скажу,— предостерег меня Луис, когда мы на полчаса остались с ним вдвоем на палубе. Волк Ларсен улаживал в это время очередную ссору между охотниками.— Никогда нельзя сказать наперед, что может случиться,— продолжал Луис в ответ на мой недоуменный вопрос.— Старик изменчив, как ветры и морские течения. Никогда не угадаешь, что он может выкинуть. Тебе кажется, что ты уже знаешь его, что ты хорошо с ним ладишь, а он тут-то как раз и повернет, кинется на тебя и разнесет в клочья твои паруса, которые ты поставил в расчете на хорошую погоду.
Поэтому я не был особенно удивлен, когда предсказанный Луисом шквал налетел на меня. Между мной и капитаном произошел горячий спор — о жизни, конечно; и, не в меру расхрабрившись, я начал осуждать самого Волка Ларсена и его поступки. Должен сказать, что я вскрывал и выворачивал наизнанку его душу так же основательно, как он привык проделывать это с другими. Признаюсь, речь моя вообще резка. А тут я отбросил всякую сдержанность, колол и хлестал Ларсена, пока он не рассвирепел. Бронзовое лицо его потемнело от гнева, глаза сверкнули. В них уже не было ни проблеска сознания — ничего, кроме слепой, безумной ярости. Я видел перед собой волка, и притом волка бешеного.
С глухим возгласом, похожим на рев, он прыгнул ко мне и схватил меня за руку. Я собрался с духом и взглянул ему прямо в глаза, хотя меня пробирала дрожь. Но чудовищная сила этого человека сломила мою волю. Он держал меня за руку выше локтя, и, когда он сжал пальцы, я пошатнулся и вскрикнул от боли. Ноги у меня подкосились, я не в силах был терпеть эту пытку. Мне казалось, что рука моя будет сейчас раздавлена.
Внезапно Ларсен пришел в себя, в глазах его снова засветилось сознание, и он отпустил мою руку с коротким смешком, напоминавшим рычание. Сразу обессилев, я повалился на пол, а он сел, закурил сигару и стал наблюдать за мной, как кошка, стерегущая мышь. Корчась на полу от боли, я уловил в его глазах любопытство, которое не раз уже подмечал в них,— любопытство, удивление и вопрос: к чему все это?
Кое-как встав на ноги, я поднялся по трапу. Пришел конец хорошей погоде, и не оставалось ничего другого, как вернуться в камбуз. Левая рука у меня онемела, словно парализованная, и в течение нескольких дней я почти ею не владел, а скованность и боль чувствовались в ней еще много недель спустя. Между тем Ларсен просто схватил ее и сжал. Он не ломал и не вывертывал мне руку. Он только стиснул ее пальцами.
Что мне грозило, я понял лишь на другой день, когда он просунул голову в камбуз и, в знак возобновления дружбы, осведомился, не болит ли у меня рука.
— Могло кончиться хуже! — усмехнулся он.
Я чистил картофель. Ларсен взял в руку картофелину. Она была большая, твердая, неочищенная. Он сжал кулак, и жидкая кашица потекла у него между пальцами. Он бросил в чан то, что осталось у него в кулаке, повернулся и ушел. А мне стало ясно, во что превратилась бы моя рука, если бы это чудовище применило всю свою силу.
Однако трехдневный покой как-никак пошел мне на пользу. Колено мое получило наконец необходимый отдых, и опухоль заметно спала, а коленная чашечка стала на место. Однако эти три дня отдыха принесли мне и неприятности, которые я предвидел. Томас Магридж явно старался заставить меня расплатиться за полученный отдых сполна. Он злобствовал, бранился на чем свет стоит и взваливал на меня свою работу. Раз даже он замахнулся на меня кулаком. Но я уже и сам» озверел и огрызнулся так свирепо, что он струсил и отступил. Мало привлекательную, должно быть, картину представлял я, Хэмфри Ван-Вейден, в эту минуту. Я сидел в углу вонючего камбуза, скорчившись над своей работой, а этот негодяй, стоял передо мной и угрожал мне кулаком. Я глядел на него, ощерившись, как собака, сверкая глазами, в которых беспомощность и страх смешивались с мужеством отчаяния. Не нравится мне эта картина. Боюсь, что я был очень похож на затравленную крысу. Но кое-чего я все же достиг — занесенный кулак не опустился на меня.