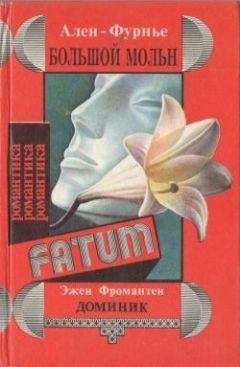В этот самый момент и занятый этой мыслью, я увидел невдалеке друга нашей семьи, которого видел каждый день, господина д'Орселя; он шел мне навстречу но той же самой аллее, и с ним обе его дочери. Я был слишком близко от них, чтобы успеть скрыться, и к тому же настолько поглощен своими занятиями, что вряд ли мог бы это сделать. И я увидел прямо перед собою спокойные глаза Мадлен, ее лицо, особенно белое в сумерках.
– И вы здесь? – проговорила она.
Мне и сейчас слышится этот ясный, воздушный голос, этот выговор, слегка на южный лад; я вздрогнул. Машинально я пожал протянутую мне руку, маленькую, тонкую и прохладную, и от прохлады прикосновения почувствовал, что моя рука горит. Мы стояли очень близко друг от друга, я отчетливо различал ее черты, и мне стало страшно при мысли, что она видит меня в таком состоянии.
– Мы испугали вас? – добавила она.
По ее изменившемуся голосу я понял, до какой степени явно мое смущение. И так как никакая сила на свете не могла бы удержать меня ни мгновенья долее в этом безвыходном положении, я пробормотал какую-то бессмыслицу и, совсем потеряв голову, самым нелепым, самым безрассудным образом обратился в бегство.
В тот вечер, не заглянув в гостиную тетушки, я поднялся к себе и заперся на ключ, чтобы меня не застали врасплох. Затем, нимало не раздумывая, почти сам того не желая, точь-в-точь как человек, одержимый каким-то неотвязным замыслом, который и влечет его, и страшит, я стал писать; на одном дыхании, не перечитывая написанного, почти не колеблясь, я переносил на бумагу неожиданные слова, пришедшие ко мне невесть откуда. У меня было такое ощущение, словно сердце мое переполнено, и по мере того как оно изливалось, мне становилось легче. Эта лихорадочная работа заняла большую часть ночи. Затем я почувствовал, что дело сделано; напряжение улеглось, и под утро, в час, когда просыпаются первые птицы, я уснул в блаженной усталости.
Днем Оливье завел разговор о моей встрече с его кузинами, о моем смущении и бегстве.
– Ты напускаешь на себя таинственность, – сказал он, – и зря; будь у меня тайна, с тобою я был бы откровенен.
Я сначала подумал было, не сказать ли правду. Оно было бы проще всего и, конечно, всего разумнее; но признанию такого рода мешали бессчетные затруднения – действительные или мнимые, – которые делали его невозможным в моих глазах. В самом деле, какими словами растолковать то, что я давно уже испытывал и о чем никто не подозревал? Как рассказать, не смущаясь, об этих чувствах, которые в крайней своей стыдливости боятся дневного света, не выносят ничьих взглядов, моих собственных так же точно, как и чужих, к которым нельзя притронуться даже мысленно, словно к слишком болезненной или слишком свежей ране? Как рассказать об этом необъяснимом душевном кризисе и о колдовском действии ночи, письменное свидетельство которого я нашел, проснувшись, нынче утром?
Я солгал в ответ: мне уже несколько дней нездоровится; вчера от жары у меня закружилась голова, я прошу Мадлен простить глупую мою мину при встрече с нею.
– Мадлен? – повторил Оливье. – Но мы не обязаны Мадлен отчетом… Есть вещи, которые никак ее не касаются.
Он проговорил эти слова со странной усмешкой, бросив на меня особенно острый и проницательный взгляд. Однако же, как ни старался он прочесть мои мысли, я был уверен, что это ему не удастся; но я понимал, что он хочет что-то выведать, и если не догадывался, какие именно чувства – вполне вероятные – мой друг мне приписывает, основываясь на собственном опыте, то все же заметил, что вызвал у него интерес, заставивший меня призадуматься, и подозрение, меня смутившее.
Я был до такой степени наивен и несведущ, что первым предостережением, которое застало меня врасплох в моем простодушии, был встревоженный взгляд тетушки и усмешка Оливье, двусмысленная и пытливая. Когда я понял, что за мною наблюдают, мне захотелось дознаться, что же тому причиной; и когда впервые в жизни покраснел, краску у меня на лице вызвало ложное подозрение. Какое-то смутное предчувствие наполнило мне душу неведомым до той поры волнением. Глагол, который в детстве все мы спрягаем первым и на уроках французского языка, и на уроках латыни, вдруг озарился небывалым светом. Два дня спустя после того, как материнская осмотрительность тетушки и ранняя осведомленность однокашника послужили мне смутным предупреждением, я готов был допустить – под натиском догадок, сомнений, тревожных предчувствий, – что тетушка и Оливье правы, полагая, будто я влюблен – но в кого?
На следующее воскресенье вечером мы собрались, как обычно, в гостиной госпожи Сейсак. Когда вошла Мадлен, я почувствовал непонятное смущение, – мы не виделись с того самого четверга. Возможно, она ждала, что я попытаюсь как-то объяснить свое поведение в тот вечер, но я был способен на это еще менее, чем прежде, и молчал. Я совсем потерялся, не зная, куда себя девать, и был крайне рассеян. Оливье, не считавший нужным щадить меня, изощрялся в шутках. Свойства они были самого незлобивого и тем не менее задевали меня за живое, ибо я вот уже несколько дней был во власти нервного возбуждения, настолько сильного, что оно сделало меня до крайности уязвимым и предрасположенным к беспричинным страданиям. Вначале я сидел подле Мадлен, просто по установившейся привычке, никак не связанной с желанием того или другого из нас. Вдруг мне пришло в голову переменить место. Почему? Я не мог бы ответить. Мне только показалось, что свет лампы, стоявшей прямо напротив, режет мне глаза и в другом месте мне будет покойнее. Когда Мадлен, рассматривавшая свои карты, подняла взгляд, она увидела, что я сижу по другую сторону стола, как раз напротив нее.
– Ну вот! – сказала она удивленно.
Но глаза наши встретились; не знаю, что необычного прочла она в моих, но слегка смутилась и не смогла кончить фразу.
Более полутора лет я жил в непрестанном общении с нею и вот сегодня в первый раз посмотрел на нее так, как смотрят, когда хотят увидеть. Мадлен была очень хороша собою, куда лучше, чем говорили, и совсем по-иному, чем я привык считать. К тому же ей было восемнадцать лет. Все это я уразумел не постепенно, но в неожиданном озарении, которое менее чем за миг открыло мне то, чего я прежде не знал ни о Мадлен, ни о себе самом. Это было словно откровение, и откровение решающее; оно дополнило откровения предыдущих дней, соединило их вместе, придав им, если можно так выразиться, почти осязаемую очевидность, и, полагаю, объяснило их до конца.
Несколько недель спустя господин д'Орсель собрался на воды, чтобы полечиться и поразмяться, как он говорил, но на самом деле по особым причинам, о которых никому не сообщалось, а я узнал лишь через некоторое время. С ним уехала Мадлен и Жюли.
Эта разлука, которая человека другого склада повергла бы в жестокое отчаяние, избавила меня от тяжкого бремени. Я не мог более жить так близко от Мадлен, ибо в ее присутствии меня всякий раз охватывала внезапная робость. Я избегал Мадлен. Взглянуть ей прямо в глаза казалось мне верхом дерзости. При виде ее спокойствия, в то время как мое было утрачено, при мысли о том, как совершенна она в своей прелести, тогда как у меня было столько причин не нравиться себе в этой одежде школьника и с этим деревенским загаром, так и не отмытым до конца, я испытывал чувство какой-то подчиненности, принужденности, приниженности, которое делало меня недоверчивым и превращало дружеские отношения, самые безмятежные, какие только могут быть, в некий долг повиновения, ничем не скрашенный, в рабство, которое я сносил с трудом. Таково было самое явственное и весьма обескураживающее действие мгновенного открытия, совершенного мною в тот вечер, о котором я вам рассказывал. Одним словом, я боялся Мадлен. Власть Мадлен надо мной я ощутил раньше, чем влечение к ней: сердце так же простодушно, как вера. Восторженное служение любому божеству всегда начинается со страха.
На другой день после ее отъезда я поспешил на улицу Кармелиток. Комнатка Оливье была в глубине высокой пристройки, примыкавшей к особняку. Обычно я заходил за Оливье перед началом занятий и звал его, стоя в саду под окном. Теперь мне вспомнилось, что в этот час почти всегда мне отвечал еще один голос, что Мадлен показывалась в окне своей комнаты и здоровалась со мною; я подумал о волнении, которое последнее время доставляла мне эта ежедневная встреча, когда-то ничем меня не пленявшая и ничем не опасная, а теперь превратившаяся в сущую муку; и я вошел смело, почти радуясь, словно какая-то часть моего существа, прежде жившая в страхе и под надзором, вдруг получила свободу.
Дом был пуст. Слуги бродили как неприкаянные; казалось, они тоже удивляются тому, что больше не нужно держать себя в узде. Окна были растворены, и майское солнце свободно резвилось в комнатах, где все предметы стояли строго по своим местам. Не запустение чувствовалось здесь, а отсутствие. Я вздохнул. Я подсчитал, сколько времени оно продлится. Два месяца! То мне казалось, что это очень много, то – что очень мало. Кажется, я готов был желать, чтобы эта недолгая отсрочка тянулась без конца, – настолько остро ощущал я потребность принадлежать самому себе.