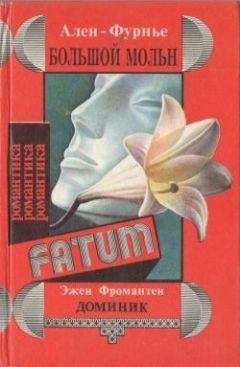На другой день после ее отъезда я поспешил на улицу Кармелиток. Комнатка Оливье была в глубине высокой пристройки, примыкавшей к особняку. Обычно я заходил за Оливье перед началом занятий и звал его, стоя в саду под окном. Теперь мне вспомнилось, что в этот час почти всегда мне отвечал еще один голос, что Мадлен показывалась в окне своей комнаты и здоровалась со мною; я подумал о волнении, которое последнее время доставляла мне эта ежедневная встреча, когда-то ничем меня не пленявшая и ничем не опасная, а теперь превратившаяся в сущую муку; и я вошел смело, почти радуясь, словно какая-то часть моего существа, прежде жившая в страхе и под надзором, вдруг получила свободу.
Дом был пуст. Слуги бродили как неприкаянные; казалось, они тоже удивляются тому, что больше не нужно держать себя в узде. Окна были растворены, и майское солнце свободно резвилось в комнатах, где все предметы стояли строго по своим местам. Не запустение чувствовалось здесь, а отсутствие. Я вздохнул. Я подсчитал, сколько времени оно продлится. Два месяца! То мне казалось, что это очень много, то – что очень мало. Кажется, я готов был желать, чтобы эта недолгая отсрочка тянулась без конца, – настолько остро ощущал я потребность принадлежать самому себе.
Я вернулся назавтра, стал бывать там каждый день; все то же безмолвие и все та же безопасность. Я обошел весь дом, исходил весь сад, аллею за аллеей; Мадлен была повсюду. Я осмелел настолько, что был в состоянии свободно перебирать воспоминания о ней. Я поглядел на ее окно и увидел ее милую головку. В аллеях сада я услышал ее голос и замурлыкал себе под нос, пытаясь воспроизвести как бы эхо знакомых романсов, которые она любила петь на вольном воздухе, потому что ветер придавал звукам особую легкость, а шум листьев служил аккомпанементом. Я увидел заново множество ее черточек, к которым прежде не присматривался либо оставался равнодушным, характерные движения, прежде ничем не приметные, а теперь исполнившиеся прелести; мне показалась пленительной чуть небрежная манера закручивать волосы узлом, подколотым на затылке и перехваченным посередине лентой, словно черный сноп. Самые незначительные особенности ее наряда или ее движений, ее любимые духи с экзотическим запахом, но которому я узнал бы ее с закрытыми глазами, все, вплоть до предпочтения, которое она с недавних пор стала отдавать некоторым тонам, в особенности синему, так ей шедшему и так выгодно оттенявшему безукоризненную белизну кожи, – все это оживало в моей памяти с удивительной явственностью, но вызывало совсем другие чувства, нежели присутствие Мадлен; скорее то было сожаление о чем-то дорогом и далеком, и упиваться этим сожалением было приятно.
Мало-помалу я весь проникся этими воспоминаниями, не столько пылкими, сколько исполненными бесконечной нежности, ведь они были единственным почти живым очарованием, которое осталось мне от Мадлен; и менее двух недель спустя после отъезда д'Орселей образ Мадлен сделался вездесущим, неотлучно сопровождая меня повсюду.
Как-то вечером я решил подняться к Оливье и, как всегда, должен был пройти мимо комнаты Мадлен. Мне уже случалось видеть, что дверь в эту комнату распахнута настежь, но никогда еще и в голову не приходило, что я могу туда войти. В тот вечер я остановился перед дверью как вкопанный и после некоторого колебания, вызванного сомнениями, которые были мне столь же внове, что и все прочие чувства, меня одолевавшие, я поддался искушению, ибо то было настоящее искушение, и вошел в комнату Мадлен.
Там уже стоял полумрак. Темное дерево старинной мебели было еле различимо, золото маркетри слабо поблескивало. Драпировка сдержанных тонов, все предметы убранства, приглушенные и мягкие по цвету, колышущиеся кисейные занавески – все это словно наполняло комнату легким сумраком и белизной, которые располагали к полнейшему покою, полнейшей сосредоточенности. В растворенное окно вливался теплый воздух, пронизанный ароматами цветущего сада, но в комнате жил еще один запах, чуть ощутимый, и я вдыхаю его с. большим волнением, чем остальные, ибо он настойчиво напоминал о Мадлен. Я подошел к окну: здесь было место Мадлен, я опустился в креслице с низкой спинкой, в котором она обычно сидела. В этом креслице я просидел несколько минут; мучительная тревога владела всем моим существом, но меня удерживало на месте желание насладиться этими впечатлениями, столь пленительными своей новизной. Я ни на что не смотрел, ни за какие блага в мире не решился бы притронуться к самой пустячной безделушке. Я не двигался, отдавшись полностью этому нескромному волнению, и сердце мое билось так учащенно, так судорожно, так громко, что я прижал обе ладони к груди, силясь заглушить, сколько возможно, этот смятенный стук.
Вдруг в коридоре послышались быстрые и четкие шаги Оливье. Я едва успел выскользнуть из комнаты, он уже был у самой двери.
– Я ждал тебя, – проговорил он тоном, достаточно безразличным, чтобы убедить меня, что он не видел, как я выходил из комнаты Мадлен, либо не находил в этом ничего предосудительного.
Одет он был легко и очень элегантно: галстук повязан чуть небрежно, просторный костюм – он любил носить такие, особенно летом. Уверенность походки, непринужденность движений в этом свободном платье придавали ему порою чрезвычайно своеобразный вид молодого иностранца, то ли англичанина, то ли креола. Такую манеру одеваться он избрал, руководствуясь инстинктивным и безошибочным вкусом. В своих костюмах он обретал особое, одному ему присущее изящество; и я, как человек, знающий вполне и достоинства его, и слабости, не могу сказать, что одежда его была претенциозна, хоть он занимался ею с величайшей серьезностью. Подбор принадлежностей, оттенков, соразмерность частей костюма – все это он почитал делом немаловажным в общей системе поведения человека хорошего тона; но одобрив тот или иной наряд, уже не возвращался к мыслям о нем, и предположить, что он уделяет одежде больше внимания, чем нужно, чтобы обдумать ее со всей изобретательностью, значило бы оскорбить его.
– Пойдем на бульвар, – сказал он, беря меня под руку. – Я хочу пойти с тобою, и уже пора, вечереет.
Оливье шел быстро и торопил меня, словно должен был поспеть к определенному часу. Он выбрал кратчайший путь, не задерживаясь, миновал безлюдные аллеи и повел меня к той части бульваров, которая летом служила местом вечерних прогулок. Там уже собралось порядочно гуляющих, всё, что в таком крохотном городке, как Ормессон, было самого светского, самого богатого и самого элегантного. Оливье вмешался в толпу; он шел не останавливаясь, взгляд его стал внимательным и острым; скрытое нетерпение владело им настолько, что он позабыл о моем присутствии. Вдруг он замедлил шаги и крепче сжал мою руку, заставляя себя преодолеть какое-то ребяческое возбуждение, которое, видимо, счел чрезмерным или неумным. Я понял, что он у цели.
Две женщины шли нам навстречу вдоль аллеи; низко нависшая сень вязов скрадывала их фигуры, придавая им что-то таинственное. Одна была молода и замечательно хороша собой; под влиянием только что обретенного опыта вкус мой сложился достаточно, чтобы я мог, не ошибившись, сделать такого рода заключение. Мое внимание привлекла сдержанная легкость ее походки, она ступала по траве аллеи частыми шажками, словно по мягкому ворсу ковра. Она пристально смотрела на нас, взгляд у нее был не такой ласкающий, как у Мадлен, и такой властный, на какой Мадлен никогда бы не отважилась; губы уже складывались в многозначительную улыбку, которой она собиралась ответить на поклон Оливье. Они обменялись приветствиями на расстоянии настолько близком, насколько это было возможно, с одинаковой, чуть небрежной грацией; и как только юная белокурая головка, все еще улыбавшаяся из-под кружев шляпки, исчезла, Оливье повернулся ко мне с дерзко вопрошающим видом.
– Ты знаком с госпожой N? – спросил он.
Он назвал имя, которое упоминалось в гостиных, где мне случалось бывать с тетушкой. Я счел вполне естественным, что Оливье был ей представлен, и сказал ему это со всем простодушием.
– Вот-вот, – продолжал он, – нынешней зимой я как-то танцевал с нею, и с того времени…
Он оборвал на полуслове.
– Милый мой Доминик, – начал он после недолгого молчания, – у меня нет ни отца, ни матери, ты знаешь; для моего дядюшки я всего лишь племянник и могу ждать от него только той привязанности, которая мне причитается по праву родства и составляет весьма небольшую долю его запасов родительской нежности, доставшейся, естественно, моим двоюродным сестрам. Стало быть, мне нужно, чтобы меня любили, и не так, как любят школьного товарища… Не приходи в негодование: я признателен тебе за дружбу, доказательства которой вижу, и уверен, что ты не изменишь, что бы ни случилось. Могу сказать тебе также, что ты мне очень дорог. Но все-таки, с твоего позволения, дружеские и родственные чувства, которыми я не обойден, при всей своей надежности кажутся мне пресноватыми. Два месяца назад на балу я говорил об этом той самой даме, которую мы только что встретили. Вначале мои слова показались ей забавными, она увидела в них только сетования школьника, которому прискучила школа; но я твердо решил, что уж раз говорю со всей серьезностью, то добьюсь, чтобы меня и слушали так же серьезно, и я не сомневался, что, если захочу, мне поверят, а потому сказал: «Сударыня, вам следует понимать мои слова как мольбу о благосклонности, если вам угодно мне ее подарить; если же нет, то это просто вздох сожаления, которого вы не услышите более». Она раз-другой слегка ударила меня веером, возможно, желая прервать; но я уже сказал все, что собирался, и, чтобы остаться верным себе, тотчас отправился домой. Я держу обещание, до сих пор не обмолвился ни словом, и у нее нет никаких оснований считать, что я хоть на что-то надеюсь либо хоть в чем-то сомневаюсь. Она не услышит больше ни жалоб, ни молений. Думаю, что при таких обстоятельствах у меня хватит терпения ждать, сколько понадобится.