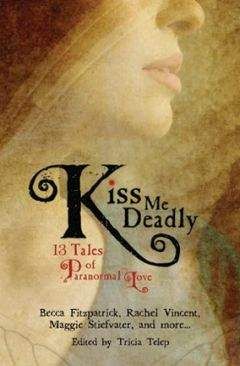— Вы меня не огорчили, — возразила она, сразу становясь кроткой и покорной, — но зачем вы меня компрометируете? Вы должны остаться для меня только другом . Разве вы этого не знаете? Мне хотелось бы видеть в вас чуткость и сдержанность истинной дружбы, чтобы не лишиться ни вашего уважения, ни удовольствия, какое доставляет мне ваше общество.
— Быть только вашим другом ? — вскричал г-н де Монриво, которого это страшное слово потрясло, точно электрическая искра. — После сладостных часов, которыми вы меня дарили, я и засыпал и просыпался полный веры, что для меня есть место в вашем сердце. А сегодня вдруг, без всякой причины, вы пожелали убить тайные надежды, которыми я только и живу. Неужели, выслушав столько клятв в верности, выказав столько презрения к женскому непостоянству, вы хотите показать теперь, что ничем не отличаетесь от прочих парижанок, что вы способны только на увлечения, а не на любовь? Зачем же вы потребовали моей жизни, зачем же приняли её в дар?
— Я виновата, друг мой. О да, женщина не права, поддаваясь порывам страсти, когда не может и не должна её разделять.
— Понимаю, вы просто ветреная кокетка, и…
— Кокетка?.. Я ненавижу кокетство. Быть кокеткой, Арман, это значит обещать себя многим мужчинам и не отдаваться никому. Отдаваться всем — это разврат. Вот что я извлекла из наших нравственных законов. Но быть печальной с разочарованными, весёлой с беспечными, расчётливой с честолюбцами, выслушивать болтунов, беседовать о войне с военными, гореть идеями общественного блага с филантропами, расточая каждому чуточку лести, — все это кажется мне столь же необходимым, как цветы в волосах, как брильянты, перчатки и красивые платья. Разговор — это духовная сторона нашего туалета. Он начинается на балу и кончается, когда мы снимаем с головы бальный убор. Вы называете это кокетством? Но к вам я всегда относилась совершенно иначе, чем к другим. С вами я искренна, милый друг. Не всегда я разделяла ваши мысли, но когда в споре вам удавалось убедить меня, не соглашалась ли я с радостью? Словом, я люблю вас, но лишь той любовью, какая дозволена женщине чистой и благочестивой. Я много думала, Арман. Я замужем. Пусть мои отношения с господином де Ланже позволяют мне свободно располагать своим сердцем, но законы и приличия не дают мне права располагать своей особой. В любых кругах обесчещенную женщину изгоняют из общества, и я не встречала ещё мужчины, который сознавал бы, к чему его обязывает подобная жертва. Более того, неизбежный будущий разрыв между госпожой де Бо-сеан и господином д'Ажуда, — он ведь, говорят, женится на девице де Рошфид, — доказывает, что почти всегда именно за эти жертвы вы и покидаете нас. Если бы вы искренне любили меня, вы согласились бы расстаться со мной ненадолго. Ведь ради вас я готова поступиться всем своим тщеславием, — разве этого мало? Подумайте, чего только не говорят о женщине, которая никого не умела к себе привязать? И бессердечна-то она, и неумна, и бездушна, а главное — лишена всякого очарования. О, поверьте, светские кокетки не дадут мне пощады, они лишат меня всех достоинств, которые возбуждали в них такую жгучую зависть. Впрочем, я сохраню доброе имя — это для меня главное, а там пускай соперницы оспаривают мою привлекательность! Все равно, сами они от этого привлекательнее не станут. Полноте, милый друг, неужели вы не можете сделать маленькую уступку той, которая стольким жертвует ради вас! Приходите пореже, это не помешает мне любить вас по-прежнему.
— Ах! если верить всяким сочинителям, любовь питается иллюзиями! — с горькой иронией воскликнул Арман, глубоко уязвлённый в своём чувстве. — Я вижу, они правы, мне остаётся только вообразить себя любимым. Но знайте, бывают мысли, наносящие неизлечимую рану: вы — это последнее, во что я ещё верил, теперь я вижу, что все на земле обман.
Она улыбнулась.
— Да, — продолжал Монриво прерывающимся голосом, — ваша католическая религия, в которую вы жаждете меня обратить, — ложь, опутавшая людей; надежда — ложь, обращённая в будущее; гордость — ложь перед самим собой; жалость — благоразумие, страх — расчётливая ложь. Моё счастье тоже основано на лжи, я должен обманывать самого себя, соглашаясь всегда отдавать червонец в обмен на серебряную монетку. Если вам так легко со мной расстаться, если вы не хотите признать меня ни другом, ни любовником, значит, вы не любите меня! А я, дурак, вижу, понимаю это и все-таки люблю.
— Ах, Боже мой, бедный Арман, вы преувеличиваете!
— Преувеличиваю?
— Ну да, вам кажется, будто все погибло, когда я прошу вас только об осторожности.
В глубине души она наслаждалась гневом, сверкавшим в глазах её возлюбленного. Продолжая мучить его, она в то же время все замечала и следила за малейшими изменениями его лица. Если бы генерал имел несчастье великодушно уступить без борьбы, как случается с иными наивными влюблёнными, он был бы изгнан навеки, заподозрен и уличён в том, что не умеет любить. Большинство женщин жаждет подвергнуться моральному насилию. Им лестно сознавать, что они уступают только силе. Но Арман был слишком неопытен, чтобы заметить, в какую западню заманила его герцогиня. Сильный человек, когда он любит, становится доверчив, как ребёнок.
— Если вам важно только сохранить внешние приличия, я готов…
— Внешние приличия? — воскликнула она, прерывая его. — Да как вы осмеливаетесь так думать, за кого вы меня принимаете? Разве я давала вам хоть малейший повод надеяться, что я могу вам принадлежать?
— Вот как! О чем же идёт речь? — спросил Монриво.
— Но вы приводите меня в ужас, сударь! Впрочем, извините, — продолжала она ледяным тоном, — благодарю вас, Арман, вы вовремя указали мне на мою неосторожность, совершенно невольную, милый друг, поверьте. Вы говорите, что умеете страдать. Я тоже научусь страдать. Мы перестанем встречаться; а позже, когда оба немного успокоимся, мы что-нибудь придумаем и будем довольствоваться радостями, дозволенными обществом. Я ещё молода, Арман, в двадцать четыре года женщина может натворить немало глупостей и безумств, попади она в руки человека бесчестного. Но вы, вы останетесь мне другом, обещайте мне.
— В двадцать четыре года женщина отлично умеет рассчитывать, — возразил Арман. Он сел на кушетку, охватив голову руками. — Любите ли вы меня? — спросил он, подняв голову и обратив к ней полное решимости лицо. — Отвечайте прямо: да или нет?
Этот вопрос больше испугал герцогиню, чем испугала бы угроза смерти, — пошлая уловка, отнюдь не страшная для женщины девятнадцатого века, когда мужчины уже не носят шпаги на боку. Но разве во взмахе ресниц, в нахмуренных бровях, в суженных зрачках, в дрожании губ нет живой магнетической силы, разве не может она вызвать трепет?
— Ах! — сказала она. — Будь я свободна, будь я…
— Так это ваш муж нам мешает? — радостно воскликнул генерал, расхаживая большими шагами по будуару. — Знайте, дорогая Антуанетта, я обладаю более неограниченной властью, чем самодержец всероссийский. Я в договоре с судьбой в отношении всяких людских дел, я могу по своей воле поторопить её или задержать её ход, точно ход часов. Чтобы управлять судьбой в нашей политической машине, надо просто уметь разбираться в её тайных пружинах. Очень скоро вы будете свободны, вспомните тогда о вашем обещании.
— Арман! — вскричала она. — О чем вы говорите? Великий Боже! Неужели вы думаете, что я соглашусь быть наградой за преступление? Вы хотите свести меня в могилу? Для вас нет ничего святого, но во мне есть страх Божий. Хотя господин де Ланже и дал мне право ненавидеть его, я не желаю ему зла.
Господин де Монриво, машинально барабаня пальцами по мраморной доске камина, спокойно смотрел на герцогиню.
— Друг мой, — продолжала она, — не посягайте на него. Он не любит меня, он дурно ко мне относится, но я обязана выполнять свой долг. Чего бы я не сделала, чтобы избавить его от несчастий, которыми вы ему грозите! Послушайте, — добавила она после некоторого раздумья, — я больше не стану говорить о разлуке, вы будете по-прежнему приходить сюда, по-прежнему целовать меня в лоб; если я порой и отказывала вам в этом, то, право же, из чистого кокетства. Но только условимся, — сказала она, видя, что он подходит ближе, — позвольте мне увеличить число моих поклонников, принимать их по утрам ещё чаще, чем прежде; я стану вдвое легкомысленнее, стану дурно обращаться с вами на людях, разыгрывая полный разрыв, вы будете навещать меня пореже, ну а потом…
При этих словах она позволила ему обнять её за талию и прильнула к нему, притворно выражая то упоение, которое большинство женщин испытывает от подобного объятия, как бы сулящего все услады любви; затем, вероятно желая выманить у него какое-то признание, она встала на цыпочки и подставила лоб пылающим губам Армана.
— А потом, — подхватил Монриво, — вы не будете больше говорить мне о муже, забудьте и думать о нем!