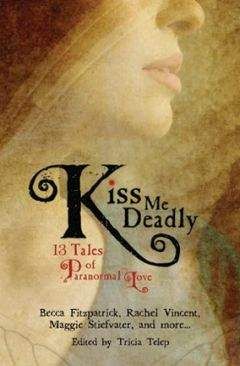Госпожа де Ланже не ответила.
— По крайней мере, — проговорила она после выразительного молчания, — обещайте повиноваться мне во всем, не ворча и не досадуя, — хорошо, милый друг? Вы просто хотели меня напугать, не правда ли? Ну-ка, признайтесь!.. Вы слишком добры, чтобы таить преступные замыслы. Да разве есть у вас тайны, которых бы я не знала? Полноте, как можете вы управлять человеческой судьбой?
— В эту минуту, когда вы подтвердили дар вашего сердца, я слишком счастлив и, право, не знаю, что вам ответить. Я верю вам, Антуанетта, я обещаю не мучить вас ни подозрениями, ни пустой ревностью. Но если случай сделает вас свободной, мы соединимся навеки…
— Только случай, Арман, — перебила она, покачав головкой с тем милым и глубокомысленным выражением, каким подобные женщины умеют играть так же легко, как певица управлять своим голосом. — Только чистая случайность, — продолжала она. — Запомните хорошенько: если с господином де Ланже по вашей вине произойдёт несчастье, я никогда не буду вашей.
Они расстались, вполне довольные друг другом. Герцогиня заключила договор, который позволял ей словами и поведением доказать всему свету, что г-н де Монриво не был её любовником. Ну, а его, — дала себе слово хитрая кокетка, — нужно будет вывести из терпения, не дозволяя ничего, кроме тех ничтожных ласк, какие удавалось ему урвать во время какой-нибудь короткой атаки, прекращаемой по желанию герцогини. Она так искусно умела отказывать в милостях, дарованных накануне, так твёрдо решила остаться целомудренной, что нисколько не страшилась этих предварительных ухаживаний, опасных только для страстно влюблённой женщины. В сущности, находясь в разлуке с мужем, герцогиня почти ничего не теряла, принося в жертву любви этот брак, расторгнутый давным-давно.
Монриво, со своей стороны, торжествовал победу: утешаясь этими туманными обещаниями, он надеялся, что навсегда покончил с доводами, которые женщина, сопротивляясь любовнику, черпает в супружеском долге, радовался, что отвоевал ещё часть территории. Некоторое время он наслаждался новыми правами, которые были ему дарованы с таким трудом. Более ребячливый, чем был в детстве, этот взрослый мужчина предавался детским радостям, которые обращают первую любовь в цвет жизни. Он, как мальчишка, изливал всю душу, бесплодно расточая силы на страсть к этой женщине, к её рукам, к пушистым белокурым локонам, которые он целовал, к её челу, блистающему чистотой. Согретая его любовью, покорённая магнетическими токами этого пламенного чувства, герцогиня все ещё медлила затеять ссору, которая должна была разлучить их навсегда. Пытаясь примирить правила религии с порывами тщеславия и с пустыми развлечениями, которыми тешатся безрассудные парижанки, она, это хрупкое создание, была больше женщиной, чем сама предполагала. Каждое воскресенье она слушала мессу, не пропускала ни одной церковной службы, а по вечерам погружалась в упоительное сладострастие непрестанно сдерживаемых желаний. Арман и г-жа де Ланже уподоблялись индийским факирам, обретающим в самих соблазнах награду за своё воздержание. Возможно также, что герцогиня находила выход своему чувству в этих братских ласках, которые со стороны показались бы невинными, но в её дерзком воображении становились порочными. Как объяснить иначе непостижимую тайну её постоянных колебаний? Каждое утро она решала отказать от дома маркизу де Монриво — и каждый вечер в назначенный час поддавалась его обаянию.
После слабого сопротивления её суровость смягчалась, речь становилась нежной, умиротворённой, — только любовники могли так задушевно беседовать вдвоём. Герцогиня щедро расточала своё сверкающее остроумие, своё обольстительное кокетство; затем, приведя в волнение душу и чувства влюблённого, позволяла маркизу ласкать её и крепко сжимать в объятиях, но никогда не разрешала перейти известный предел: и если он в исступлении страсти готов был нарушить её запрет и переступить границы, она всегда отталкивала его с гневом. Ни одна женщина не противится любви без причины: что может быть естественнее, чем уступить ей? Поэтому г-жа де Ланже оградила себя вскоре второй линией укреплений, ещё более неприступной, чем первая. На этот раз она призвала на помощь страх Божий. Ни один из отцов церкви не проповедовал с таким красноречием; никто не доказывал справедливость кары Господней с такой пылкостью, как герцогиня. Она не прибегала ни к молитвенным возгласам, ни к риторическому многословию. У неё был свой собственный пафос. На самые горячие мольбы Армана она отвечала взором, блестящим от слез, каким-нибудь движением, обличавшим глубокое, мучительное страдание; она заставляла его умолкнуть, взывая о пощаде: ещё одно слово, и она не станет его слушать, она не выдержит, лучше смерть, чем преступное счастье.
— Ослушаться Господа — разве это не ужасно? — говорила прелестная комедиантка голосом, казалось, ослабевшим от внутренней борьбы, от которой она едва могла ненадолго оправиться. — Я с радостью принесу вам в жертву общество, целый свет; но как эгоистично с вашей стороны ради мимолётного наслаждения губить мою душу. Ну, скажите правду, разве вы несчастливы? — прибавляла она, протягивая руку и обольщая его своим небрежным одеянием — утехи, которые дорого обходились её любовнику.
Если порой — то ли по слабости, то ли желая удержать человека, чья неистовая страсть вызывала в ней неизведанные ощущения, — она позволяла ему похитить поцелуй, то тут же прогоняла Армана с кушетки, как только соседство с ним становилось опасным.
— Ваши радости — это мои грехи, Арман; они стоят мне стольких покаяний, стольких угрызений совести! — восклицала она с упрёком.
Очутившись на расстоянии нескольких стульев от этой аристократической юбки, Монриво начинал богохульствовать и проклинать Бога. Герцогиня приходила в негодование.
— Ах, мой друг, — говорила она сухо, — не понимаю, почему вы отказываетесь верить в Бога, если людям верить невозможно. Перестаньте, не смейте так говорить; вы слишком умны, чтобы разделять глупости либералов, которые дерзают отрицать Бога.
Она пользовалась теологическими и политическими спорами, как холодным душем, чтобы успокоить Монриво и отвлечь от любви; она сердила его, заманивая за тысячи вёрст от своего будуара, в дебри теорий абсолютизма, идею которого защищала с величайшим искусством. Мало кто из женщин осмеливаются быть демократками, это слишком противоречит их деспотизму в области чувства. Случалось, однако, что генерал, послав к черту политику, потрясал своей гривой, рычал, как разгневанный лев, ломал преграды и, бешеный от страсти к любовнице, бросался на свою жертву, не в силах дольше сдерживать себя. Если эта женщина чувствовала себя задетой за живое и уже готовой сделать непоправимый шаг, она умела вовремя увести Монриво из будуара; покинув насыщенный негой и желаниями воздух, которым они дышали, она переходила в гостиную, садилась за фортепиано и пела прелестные современные арии, находя выход чувственной страсти, которая порою и ей не давала пощады, но которую она умела подавлять. В такие минуты она казалась Арману дивной и восхитительной; она была искренна, не притворялась, и бедный безумец верил, что он любим. Её эгоистическое сопротивление он принимал за целомудрие святого, добродетельного создания, он смирялся и говорил о платонической любви — это он-то, артиллерийский генерал! Вдоволь наигравшись религией сама, г-жа де Ланже придумала новую игру, якобы в интересах Армана; она задалась целью вновь обратить его к христианским добродетелям, она излагала ему «Гений христианства», приспособив его к пониманию военных. Монриво выходил из терпения, тяготился своим невыносимым ярмом. О, тогда из чувства противоречия она прожужжала ему уши Господом Богом, надеясь, что Всевышний избавит её от человека, который шёл к цели напролом и начинал приводить её в ужас. К тому же она нарочно раздувала всякую ссору, чтобы затянуть подольше нравственную борьбу и избежать борьбы физической, гораздо более угрожающей. Если сопротивление во имя святости брака представляло собой гражданскую войну в этой распре чувств, то теперь наступила война религиозная, и в ней, как в первой, обозначился перелом, после которого сила сопротивления начала убывать. Однажды вечером, случайно явившись к герцогине раньше времени, Арман застал у неё г-на аббата Гондрана, исповедника г-жи де Ланже, который, удобно расположившись в креслах у камина, благодушно переваривал тонкий обед и очаровательные грехи своей духовной дочери. Увидев этого человека, его свежее, спокойное лицо, невозмутимое чело и рот аскета, его пытливый инквизиторский взгляд; увидев его степенную пастырскую величавость и облачение, в котором преобладали фиолетовые тона, предвестники епископского сана, — Монриво стал мрачнее тучи, никому не поклонился и не проронил ни слова. Проницательный во всем, что не касалось его любви, генерал угадал, обменявшись взглядом с будущим епископом, что перед ним виновник тех преград, какие ставила его любви герцогиня. Какой-то честолюбивый аббат смел строить козни и мешать счастью такого закалённого воина, как Монриво! — от этой мысли кровь бросалась ему в лицо, пальцы судорожно сжимались, он вскакивал с места, ходил взад и вперёд, переступал с ноги на ногу; но когда он приближался с намерением излить свой гнев, герцогиня усмиряла Монриво одним взглядом. Нимало не обеспокоенная угрюмым молчанием своего обожателя, которое смутило бы любую женщину, г-жа де Ланже продолжала вести с г-ном Гондраном глубокомысленную беседу о необходимости восстановить религию во всем её блеске. Красноречивее самого аббата рассуждала она о том, почему церковь должна представлять собой как светскую, так и духовную власть, и сокрушалась, что в палате пэров до сих пор нет епископской скамьи, как в палате лордов. Наконец аббат, сообразив, вероятно, что во время поста он своё возьмёт, уступил место генералу и распрощался. Герцогиня едва поднялась с кресел, отвечая на смиренный поклон своего духовника, настолько она была удивлена странным поведением Монриво.