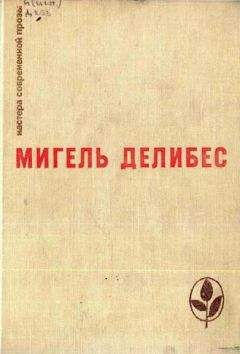Кино-Однорукий решил жениться, и соседи накинулись на него: «Мариука худосочная», «Мариука больная», «Чахотка — плохая подруга». Но Кино-Однорукий наплевал на все и в одно прекрасное весеннее утро, нарядившись в синий костюм и белый шейный платок, явился с Мариукой в церковь. Священник дон Хосе, настоящий святой, благословил их. Мариука надела Кино-Однорукому обручальное кольцо на безымянный палец левой руки, потому что правая у него была ампутирована.
Хосефе, несмотря на все ее старания, не удалось отравить ему медовый месяц. Она хотела, чтобы ее горе всю жизнь отягощало его совесть, но не добилась этого.
В церкви во время первого оглашения она, как пантера, ринулась к алтарю, призывая святого Роха в свидетели, что Мариука и Кино-Однорукий не могут пожениться, потому что Мариука чахоточная. Сначала в храме поднялся переполох, потом воцарилась тишина — все затаили дыхание.
Но дон Хосе лучше Хосефы знал каноническое право.
— Дочь моя, — сказал он, — христианский закон не запрещает больным вступать в брак. Поняла?
Хосефа в отчаянии бросилась на ступеньки алтаря и начала рыдать как безумная, рвать на себе волосы и молить о сочувствии. Все ей сочувствовали, но изготовить, не сходя с места, второго Кино было невозможно.
Кино, похлопывая себя культей по подбородку, грустно улыбался с одной из задних скамей, где садились мужчины. Дон Хосе замешкался, не зная, как поступить, и Перечница-старшая пришла ему на помощь: подошла к Хосефе и вытащила ее из храма, сочувственно взяв под мышки. (Потом Перечница-старшая потребовала, чтобы дон Хосе ради нее второй раз отслужил мессу, поскольку она, вытаскивая Хосефу из церкви и увещевая ее на паперти, пропустила освящение даров. Она заявила, что не желает остаться без мессы из-за того, что сделала доброе дело, и что это несправедливо, неразумно, нелогично и безнравственно, и что ее гложут угрызения совести, и что такого с ней еще никогда не случалось. Дону Хосе стоило больших трудов утихомирить ее и вернуть ей ее шаткое душевное спокойствие.) После этого он как ни в чем не бывало продолжал литургию, но в следующее воскресенье мессу не пропустил никто — пришел даже Панчо-Безбожник, который тишком забрался на хоры и спрятался за органом. Всем хотелось посмотреть, что будет. В этот день дон Хосе прочел оглашение, и ничего не произошло. Только когда он произнес имя Кино, со скамьи, на которой сидела Хосефа, послышался приглушенный вздох. Но больше ничего. Панчо-Безбожник, выходя, сказал, что благочестие — бесполезный пережиток, что в этом селении быть набожным человеком нет никакого расчета и что поэтому ноги его больше в церкви не будет.
Чрезвычайное происшествие случилось в день свадьбы, во время угощения, когда все и думать забыли о Хосефе. Должно быть, как раз то, что о ней никто не думал, и побудило ее привлечь к себе внимание столь варварским способом. Но как бы то ни было, произошел странный и прискорбный случай.
Крик Хосефы был прекрасно слышен во дворе Кино-Однорукого, где собрались приглашенные. Он доносился с моста, и все одновременно посмотрели в сторону моста. Хосефа, раздетая донага, стояла на парапете, вперив взгляд в бурный поток. Чтобы предотвратить катастрофу, женщины не придумали ничего лучше, чем кричать, округлять глаза и падать в обморок. Двое мужчин бросились было бежать к Хосефе, по их словам, чтобы удержать ее, но их супруги сурово приказали им вернуться, потому что не желали, чтобы мужья видели вблизи голую Хосефу. Пока продолжались сомнения и колебания, Хосефа опять закричала, закатила глаза и бросилась в темные воды Эль-Чорро.
Все, кроме молодоженов, побежали к реке. Вскоре в таверну вернулся судья. В эту минуту Кино говорил Мариуке:
— Эта Хосефа — ослица.
— Была ослица… — поправил его судья.
Так Мариука и Кино-Однорукий узнали, что Хосефа убилась насмерть.
Похоронить ее на маленьком кладбище возле церкви было не так-то просто, потому что дон Хосе не соглашался дать туда доступ самоубийце, не спросившись епископа. Наконец из города пришло разрешение, и все уладилось, потому что Хосефа, как видно, покончила с собой в состоянии временного помешательства.
Но даже и тень Хосефы не смогла омрачить Кино свадебного путешествия. Молодожены провели неделю в городе, а не успели вернуться, как Мариука объявила во всеуслышание, что она беременна.
— Уже? — удивилась Курносая, которая не могла понять, как это некоторые женщины ухитряются забеременеть, переспав один раз с мужчиной, тогда как другим это никак не удается, хотя они спят с мужчиной каждую ночь.
— Что же тут особенного? — смущенно сказала Мариука.
А Курносая пробормотала себе под нос крепкое словечко.
Беременность у Мариуки протекала ненормально. По мере того как у нее выпирал живот, она так спадала с лица, что это вызывало серьезные опасения. Женщины начали поговаривать, что ей не вынести родов.
Роды-то она вынесла, но послеродовой период не пережила. Чахоточная умерла через полторы недели после рождения ребенка и ровно через пять месяцев после самоубийства Хосефы.
Теперь кумушкам стало ясно, почему Мариука, не успев сойти с поезда, на котором приехала из города, поспешила всех оповестить, что она в положении.
Кино-Однорукий, как говорили, провел ночь у тела жены с новорожденной на руках, плача и робко поглаживая сморщенной культей гладкие светлые волосы покойной.
Перечница-старшая, узнав о несчастье, отпустила такое замечание:
— Это ее бог наказал за то, что она разговелась, когда еще не кончился пост.
Она намекала на роды, последовавшие слишком скоро после свадьбы, но экономка дона Антонино, маркиза, справедливо возразила, что если бы это было так, то бог наверняка наказал бы и Ирену, Перечницу-младшую, которая оскоромилась еще почище, а между тем с ней ничего не случилось.
В то время Даниэлю-Совенку было всего только два года, а Роке-Навознику четыре. Спустя пять лет они начали заходить к Кино, возвращаясь домой после купания в Поса-дель-Инглес или ловли раков и мальков. Однорукий был сама щедрость и за пять сентимо наливал им большую кружку сидра из бочонка. Уже тогда таверна Кино приходила в упадок. Однорукий не платил по векселям, и поставщики переставали отпускать ему товар. Герардо-Индеец не раз давал поручительство за него, но, не видя со стороны Однорукого никакого старания исправиться, через несколько месяцев оставил его на произвол судьбы. И Кино-Однорукий начал, что называется, перебиваться из кулька в рогожку — дела его шли все хуже и хуже. Но что верно, то верно, словоохотливости он не потерял и продолжал угощать посетителей тем немногим, что у него оставалось.
Роке-Навозник, Герман-Паршивый и Даниэль-Совенок обычно усаживались рядом с ним на каменной скамье у двери таверны, выходившей на шоссе. Кино-Однорукому нравилось болтать с ребятишками больше, чем со взрослыми, наверное, потому, что в конечном счете он и сам был большой ребенок. Случалось, в разговоре всплывало имя Мариуки, а с ним и воспоминание о ней, и тогда у Кино-Однорукого увлажнялись глаза, и, чтобы скрыть волнение, он похлопывал себя культей по подбородку. В таких случаях Роке-Навозник, враг слез и сентиментов, ни слова не говоря, вставал и уходил, уводя с собой обоих друзей, которые, как пришитые, повсюду тянулись за ним. Кино-Однорукий озадаченно глядел им вслед, не понимая, что заставило мальчишек так внезапно покинуть его без всяких объяснений.
Никогда Кино-Однорукий не хвастался перед ребятами тем, что одна женщина покончила с собой из-за него, и даже не упоминал об этой истории. Если Даниэлю-Совенку и его друзьям было известно, что Хосефа нагишом бросилась с моста в реку, то узнали они об этом от Пако-кузнеца, который не скрывал, что ему нравилась эта женщина и что если бы она пошла ему навстречу, то была бы теперь второй матерью для Роке-Навозника. Но если она предпочла смерть его могучей груди и рыжим волосам, то тем хуже для нее.
В те времена, когда в таверне Кино можно было за пять сентимо получить большую кружку сидра, любопытство трех друзей всего более разжигала культя Однорукого: им хотелось знать, как он лишился руки. Это была простая история, и Однорукий просто рассказывал ее.
— Знаете, это брат меня обкорнал, — говорил он. — Мой брат был лесорубом. На конкурсах он всегда получал первую премию. Он перерубал толстый ствол в несколько минут, быстрее всех. Он хотел быть боксером.
Когда Кино-Однорукий упоминал о призвании своего брата, внимание мальчишек возрастало. Кино продолжал:
— Понятное дело, это произошло не здесь. Это произошло в Бискайе пятнадцать лет назад. Знаете, Бискайя отсюда недалеко. Вон за теми горами. — И он указывал на окутанную туманом вершину Пико-Рандо. — В Бискайе все мужчины хотят быть сильными, и есть много действительно сильных. Мой брат был самым сильным в селении, он всех побивал, поэтому и хотел стать боксером. Как-то раз он мне сказал: «Кино, придержи-ка этот ствол, я разрублю его четырьмя ударами». Он часто меня об этом просил, хотя четырьмя ударами стволы никогда не разрубал. Это только так говорилось. В тот день я крепко прижал ствол, но, когда брат занес топор, я протянул руку, мол, чуть подальше, а то на сук попадешь, и — раз!.. — Три детских мордочки выражали в эту минуту одинаковое волнение. Кино-Однорукий с нежностью смотрел на свою культю и улыбался. — Рука отлетела, как щепка, метра на четыре, — продолжал он. — И когда я сам подошел поднять ее, она была еще теплая и пальцы корчились, как хвост у ящерицы.