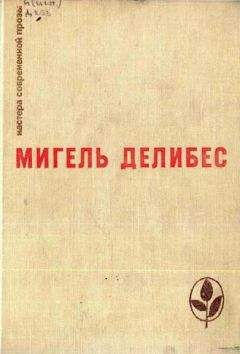Навозник, дрожа, спрашивал:
— Тебе не будет неприятно, Однорукий, показать мне поближе культю?
— Наоборот, — говорил Кино и, улыбаясь, протягивал искалеченную руку.
Трое детей, ободренные любезным согласием Однорукого, рассматривали обрубок со всех сторон, щупали его, залезали грязными ногтями в ямки и складки, обменивались замечаниями и, наконец, оставляли культяпку на столе, как ненужный предмет.
Мариука, дочь Однорукого, была вскормлена козьим молоком, и Кино сам делал для нее рожки, пока ей не исполнился год. Когда ее бабушка по материнской линии как-то раз заикнулась о том, что могла бы взять девочку на свое попечение, Кино-Однорукий принял это так близко к сердцу и так осерчал, что с этого дня перестал разговаривать с тещей. В селении уверяли, что Кино обещал покойной не отдавать дочь в чужие руки, даже если ему придется самому кормить ее грудью. Даниэлю-Совенку это казалось явным преувеличением.
Мариуку-уку, как ее звали в селении в знак того, что для окружающих она как бы отголосок покойной Мариуки, любили все, кроме Даниэля-Совенка. Это была девочка с голубыми глазами, золотыми волосами и веснушками, испещрявшими верхнюю половину лица. Даниэль-Совенок знал ее так давно, что первое знакомство уже изгладилось из его памяти. Но он помнил Мариуку-уку еще крохой лет четырех, вертевшейся в праздничные дни поблизости от сыроварни.
У матери Даниэля-Совенка девочка пробуждала неудовлетворенный материнский инстинкт. Ей хотелось иметь дочку, пусть даже веснушчатую, как Мариука-ука. Но это было уже невозможно. Дон Рикардо, доктор, сказал ей, что после аборта она больше не забеременеет. Ее утроба старела, не суля никаких надежд. Вот почему мать Даниэля-Совенка чувствовала к сиротке почти материнскую привязанность. Когда она видела, что та слоняется возле сыроварни, она звала ее и усаживала за стол.
— Мариука-ука, — говорила она, гладя ее по головке, — хочешь, дочка, немножко творога?
Девочка кивала. Мать Совенка заботливо ухаживала за ней.
— Маленькая, а сахару не добавить? Сладко?
Девочка опять кивала, не говоря ни слова. Когда она съедала лакомство, мать Даниэля интересовалась повседневным обиходом в доме Кино.
— Мариука-ука, кто тебе, дочка, стирает одежду?
— Отец.
— А кто тебе стряпает еду?
— Отец.
— А кто тебе расчесывает косы?
— Отец.
— А кто тебе моет лицо и уши?
— Никто.
Мать Даниэля-Совенка брала жалость. Она вставала, наливала воды в таз и мыла уши Мариуке-уке, а потом тщательно расчесывала ей косы, приговаривая: «Бедная девочка, бедная девочка, бедная девочка…» Окончив эту операцию, она легонько шлепала ее по полке и говорила:
— Ну вот, дочка, ты и покрасивела.
Девочка слабо улыбалась, и тогда мать Даниэля-Совенка брала ее на руки и принималась неистово целовать.
Может быть, на Даниэля-Совенка, который был не очень-то расположен к девочке, влияла эта неумеренная нежность матери к Мариуке-уке, вызывая у него неосознанное чувство ревности. Впрочем, нет. Даниэля-Совенка просто злило, что маленькая Ука во все совала свой нос и назойливо вмешивалась в дела, которыми девчонкам заниматься не пристало и которые ее не касались.
Правда, Мариука-ука пользовалась завидной свободой, даже немножко дикарской свободой, но все же она была девчонка, а девчонка не может делать то, что делали они, да и они не могли говорить про «это» при ней — это было бы неловко и неуместно. Однако Даниэлю-Совенку было ни тепло, ни холодно от того, что его мать любила ее и по воскресеньям и праздникам угощала сладким творогом. Его только раздражало, что Мариука непрестанно заглядывает ему в лицо и всячески старается приобщиться к его жизни.
— Совенок, куда ты сегодня пойдешь?
— К черту. Хочешь со мной?
— Да, — отвечала девочка, не думая о том, что говорит.
Роке-Навозник и Герман-Паршивый смеялись и дразнили Даниэля-Совенка — мол, Ука-ука влюблена в него.
Однажды он, чтобы отделаться от девочки, дал ей монетку и сказал:
— Ука-ука, возьми эти десять сентимо и ступай в аптеку, скажи, чтобы меня взвесили.
Ребята ушли в горы, а когда они уже затемно возвращались, Мариука сидела на пороге сыроварни, терпеливо поджидая их. Увидев ребят, она подошла к Совенку и вернула ему монету.
— Совенок, — сказала она, — аптекарь говорит, что если ты хочешь взвеситься, то должен прийти сам.
Три друга хохотали до упаду, а она озадаченно смотрела на них своими ясными голубыми глазами, по-видимому не понимая, почему они смеются.
Уке-уке подчас приходилось призывать на помощь всю свою хитрость, чтобы побыть с Совенком.
Однажды вечером они встретились на шоссе.
— Совенок, — сказала девочка. — Я знаю, где есть гнездо соек. Там уже оперившиеся птенчики.
— Скажи мне, где оно, — ответил он.
— Пойдем со мной, и я тебе покажу, — сказала она.
И на этот раз он пошел с Укой-укой. Всю дорогу девочка не сводила с него глаз. Тогда ей было только девять лет. Даниэль-Совенок чувствовал на себе ее взгляд, буравивший его, как шильце.
— Ука-ука, какого черта ты так смотришь на меня? — спросил он.
Она застыдилась, но глаз не отвела.
— Мне нравится на тебя смотреть, — сказала она.
— Не смотри на меня, слышишь?
Но девочка либо не слышала, либо не обратила на это внимания.
— Я тебе говорю, чтобы ты не смотрела на меня, не слышишь, что ли? — повторил он.
Тогда она опустила глаза.
— Совенок, — сказала она. — Это правда, что тебе нравится Мика?
Даниэль-Совенок покраснел как рак, и у него застучало в висках. Он на минуту замешкался, не зная, следует ли в таких случаях сердиться или, наоборот, нужно улыбнуться. Но кровь продолжала пульсировать в висках, и, чтобы не тянуть, он решил возмутиться. Однако он позаботился скрыть свое замешательство, притворившись, что зацепился за изгородь, которой был обнесен луг.
— Тебе нет дела, нравится мне Мика или нет, — сказал он.
Ука-ука несмело проговорила:
— Она старше тебя. На десять лет старше.
Они поссорились. Даниэль-Совенок оставил Мариуку-уку одну на лугу, а сам вернулся в селение, даже не вспоминая о гнезде соек. Но весь вечер он не мог забыть слова Мариуки-уки. Ложась спать, он почувствовал какое-то странное внутреннее беспокойство. Но взял себя в руки. Уже в постели он вспомнил, что кузнец много раз рассказывал им историю Перечницы-младшей и Димаса и всегда начинал так: «Мошенник был на пятнадцать лет моложе Перечницы…»
Даниэль-Совенок улыбнулся в темноте. Он подумал, что то же самое может произойти и с ним, и заснул с ощущением веяния безмятежного, удивительного счастья.
Дядя Аурелио, брат матери, написал им из Эстремадуры. Дядя Аурелио уехал в Эстремадуру, потому что у него была астма и ему не подходил сырой климат долины, где давала себя знать близость моря. В Эстремадуре климат был суше, и дядя Аурелио чувствовал себя лучше.
Он работал погонщиком мулов в большом имении, и хотя платили ему немного, зато у него был даровой кров и сельскохозяйственные продукты по дешевой цене. «По нынешним временам большего нельзя и требовать», — написал он им в первом письме.
У Даниэля-Совенка сохранилось лишь смутное воспоминание о дяде Аурелио. Он помнил только, как тот отдувался и пыхтел, точно паровоз на подъеме. Дядя каждый день клал себе компрессы на грудь и вдыхал пары эвкалиптовой настойки, но, несмотря на это, переставал тяжело дышать только летом, в самую сухую пору, продолжавшуюся недели две.
В последнем письме дядя Аурелио писал, что посылает малышу герцога, которого поймал живым в оливковой роще. Даниэль-Совенок даже вздрогнул, когда, читая письмо, дошел до этого места. Он вообразил, что дядя послал ему багажом кого-то вроде дона Антонино, маркиза, с орденами, медалями и значками на груди. Он не знал, что герцоги разгуливают по оливковым рощам, и тем более, что погонщики мулов могут безнаказанно ловить их, как зайцев.
Отец рассмеялся, когда он высказал ему свои страхи. Даниэль-Совенок про себя обрадовался, что рассмешил отца, который в последние годы всегда ходил с кислым видом и не смеялся, даже когда цыгане разыгрывали комедии и паясничали на площади. Посмеявшись, отец разъяснил:
— Герцог — это гигантская сова, филин. Он служит прекрасной приманкой при охоте на коршунов. Когда он прибудет, я возьму тебя на охоту на Пико-Рандо.
В первый раз отец обещал взять его с собой на охоту. А ведь Даниэль не скрывал от него своего горячего желания поохотиться.
Каждый год, как только открывался охотничий сезон, сыровар садился на товарно-пассажирский поезд и уезжал в Кастилию. Через два дня он возвращался с одним-двумя зайцами и целой связкой куропаток, которую неизменно вывешивал из окна своего купе. Перепелок он не стрелял — говорил, что они не стоят патрона и что таких птиц либо убивают из рогаток, либо не трогают. Он их не трогал. Совенок убивал их из рогатки.