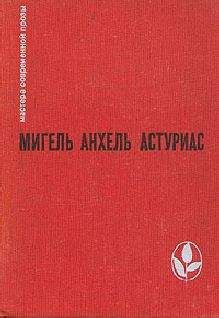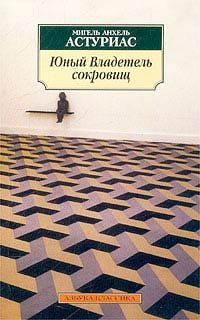В эту минуту военный прокурор выходил из экипажа.
– Прокурор… – сказал Васкес.
– Чего он приехал? – спросила Удавиха.
– Генерала забирать…
– Ну и расфуфырился! Фу-ты ну-ты!… Для генерала, что ли?
– Много знать хочешь, доиграешься! А нарядный он такой потому, что отсюда к Президенту отправится.
– Вот счастье людям!
– Лопни мои глаза, если генерала не забрали!…
– Так его и заберут!
– Да молчи ты!
Прокурор вышел из кареты. Шепотом передали приказ, и капитан направился к дому во главе небольшого отряда. В одной руке сабля, в другой – револьвер, совсем как на картинках про русско-японскую войну!
Через несколько минут – перетрусившему Васкесу они показались часами – офицер вышел из дома и подошел к прокурору. Он был очень бледен и явно встревожен.
– Как?… Что?… – заорал прокурор.
Слева офицера с трудом выпутывались из складок учащенного дыхания.
– Как?… Как?… Как это так – убежал? – орал прокурор. Дне вены торными вопросительными знаками вспухли у него на лбу. – Как… как… как это так – ограбили дом?…
Он бросился к двери, офицер – за ним. Окинул мгновенно все взглядом и выскочил на улицу, гневно сжимая жирной рукой эфес шпаги. Он побледнел так, что губы стали цвета мушиного крыла, как его усы.
– Как он ушел, вот что я хочу знать! – заорал он. – Срочно приказ! Для чего телефон выдуман? Чтобы ловить государственных преступников! Вот сволочь старик! Поймаю – повешу! Не хотел бы я быть в его шкуре.
Взор прокурора упал на Федину. Офицер и сержант почти силой притащили ее туда, где он орал.
– У, с-сука!… – сказал он и, не отрывая от нее глаз, прибавил: – Она у нас заговорит! Лейтенант, возьмите десять солдат и отведите ее куда следует. В одиночную!
Неподвижный крик заполнял пространство – скользкий,
раздирающий, страшный.
– Ой, что они там делают? Распинают его, что ли? – скулил Васкес.
Крик Чабелоны все острее впивался ему в грудь.
– Его! – передразнила хозяйка. – Не слышишь, это баба? Думаешь, все мужчины такие писклявые?
– Да брось ты!…
Прокурор приказал обыскать соседние дома. Группы солдат под командой унтер-офицеров отправились в разные стороны. Они осматривали дворы, дома, службы, беседки, колодцы. Взбирались на крыши, шарили под кроватями, под коврами, в шкафах, в комодах, в чемоданах, заглядывали в бочки. Не отпирают – дверь выбивали прикладом. Собаки заходились от лая. прижавшись к бледным своим хозяевам. Лай хлестал из домов.
– Сейчас сюда явятся! – с трудом проговорил Васкес.
– Ну и влипли мы!… Было бы за что, а то по глупости…
Хозяйка побежала к Камиле.
– Вот что, – сказал Васкес, – пускай она лицо закроет да уходит отсюда.
И, не дожидаясь ответа, попятился к дверям.
– Постой! Постойте-ка! – громко зашептал он. взглянут в щелку. – Прокурор другой приказ дает, отменили обыск. Слава тебе господи!
Хозяйка кинулась к двери – посмотреть своими глазами, очень уж Лусио радуется!
– Вон тебе твой распятый!… – шептала она.
– Кто это, а?
– Служанка ихняя. Сам не видишь? – И, увернувшись от жадных рук Васкеса: – Тихо ты! Тихо! Тихо, говорю! Ну тебя совсем.
– Ух, поволокли, беднягу!
– Как трамваем задавленная!
– С чего это, когда помирают, всегда вьюном вьются?
– Брось, не хочу я на это глядеть!
Под командой капитана – того, что с саблей, – солдаты вытащили из дома Каналеса несчастную Чабелону. Ее уже не мог допросить прокурор. Вчера, в это самое время, она была душой дома, где клевала семя канарейка, била струя фонтана, раскладывал пасьянсы генерал, капризничала Камила.
Прокурор вскочил в карету, за ним – офицер. За первым углом они исчезли в клубах пыли. Четверо грязных людей пришли с носилками за Чабелоной – отнести в анатомический театр. Солдаты маршировали в крепость, Удавиха открыла свое заведение. Васкес занял обычное место; ему не удавалось скрыть, как встревожил его арест Родасовой жены, голова разламывалась, повсюду мерещился яд, временами возвращалось опьянение и неотступно мучили мысли о побеге генерала.
А Федина сражалась с солдатами по дороге в тюрьму. Они толкали ее с тротуара на мостовую; сперва она шла тихо, но вдруг терпение у нее лопнуло, и она влепила одному пощечину. Он ударил ее прикладом – этого она не ожидала! Другой огрел по синие. Она покачнулась, лязгнули зубы, потемнело в глазах.
– Сучьи вы дети!… На что вам ружья дали! Стыда никакого нет! – вступилась какая-то женщина, тащившая с базара полную корзину фруктов и овощей.
– А ну, молчать! – заорал солдат.
– Сам помолчи, морда!
– Ладно, ладно! Идите-ка вы лучше отсюда! Что вам, делать нечего? – прикрикнул на нее сержант.
– Мне-то есть чего, бездельники!…
– Замолчите, – вмешался офицер. – Замолчите, а то достанется!
– Еще чего! Ходят тут, цыкают… а сами-то! Кости да кожа, одни штаны болтаются… Вам бы только людям глотку затыкать! Вояки вшивые! Людей хватают ни за что ни про что!
Но постепенно она, неизвестная защитница, осталась позади и смешалась с испуганными прохожими. А Федина шла в тюрьму под конвоем, убитая горем, растерзанная, мела мостовую подолом шерстяной юбки.
Когда карета прокурора показалась у дома Абеля Карвахаля, лиценциат, в сюртуке и в шляпе, собирался идти во дворец. Он закрыл за собой входную дверь и медленно натягивал перчатку; в эту минуту его коллега подошел к нему. И, как был, в парадном платье, он пошел под конвоем по мостовой, во Второе отделение полиции, украшенное флажками и бумажными цепями. Там его немедленно отправили в камеру, где сидели студент и пономарь.
Среди полей и черепичных крыш, благоухающих апрельской свежестью, в зыбкой ясности рассвета возникают улицы. Вот – мулы, развозят молоко; они несутся во всю прыть, позвякивают ручки бидонов, хлещет бич, тяжело дышит погонщик. Вот – коровы, их доят в коровниках богатых домов и на углах бедных кварталов, а постоянные покупатели, еще не очнувшись от бездонных, стеклянных снов, выбирают лучшую корову и доят сами, искусно двигая стаканом, чтобы получить больше молока и меньше пены. Вот – разносчицы хлеба, босые, кособокие, идут на негнущихся ногах неверными, мелкими шажками, вдавив голову в плечи, под тяжестью чудовищных корзин – корзина на корзине, – огромных, как пагоды, распространяющих сладкий запах слоеного теста и поджаренного кунжута. Вот играют зорю; как всегда в торжественных случаях, будят город призраки металла и ветра, пестро чихают, вкусно поют; а в церквах, отчаянно и робко, звонят к утренней мессе, – отчаянно и робко, ибо если в дни обычных праздников колокольный звон пахнет шоколадом и пирожным, то в дни национальных торжеств он пахнет запретным плодом.
Национальное торжество…
Вместе с запахом свежей земли плывет над улицей радость горожан. Люди плещут водой из окон, чтобы меньше пылили войска, марширующие ко дворцу под сенью знамени, издающего запах нового носового платка; и кареты важных господ, разодетых в пух и прах, врачей, прячущих аптечку под полой сюртука, сверкающих генералов, пропахших свечкой, – кто в шляпе, кто в треуголке; и мелкая рысца чиновников, чье достоинство, с точки зрения доброго правительства, измеряется стоимостью похорон, которые в свое время устроит им государство.
Владыка наш, небо и земля полнятся славой твоей! Вот и Президент – далеко от люден, очень далеко, в группе приближенных. Он доволен народом, который отвечает благодарностью на неусыпные его заботы.
Владыка наш, небо и земля полнятся славой твоей! Дамы чувствуют приближение любимца богов. Жирные священнослужители кадят ему фимиам. Законники перенеслись мечтами на турнир Альфонса Мудрого. Приосанились дипломаты, кавалеры всяческих орденов, вообразив себя в Версале времен короля Солнца. При виде воскресшего Перикла облизываются журналисты, иностранные и свои. Владыка наш, небо и земля полнятся славой твоей! Поэты думают, что они в Афинах, и сообщают об этом всему миру. Скульптор, избравший своей специальностью изображения святых, ощущает себя Фидием; он улыбается, закатывает глаза, потирает руки, слушая, как приветствует парод великого своего правителя. Владыка наш, небо и земля полнятся славой твоей! Композитор, сочиняющий похоронные марши – поклонник Бахуса и святого погребения, – свесил с балкона свое помидорное рыло и смотрит внимательно, пристально – а где же там земля?…
Но если жрецы искусства воображают, что внезапно очутились в Афинах, – еврейские банкиры оказались в Карфагене, вступив во дворец государственного мужа, почтившего их доверием и вложившего в их кассы деньги народа из нуля процентов, что дало им возможность обогащаться и превращать серебро и золото в лоскутки обрезания.
Владыка наш, небо и земля полнятся славой твоей!
Кара де Анхель с трудом протискался сквозь толпу приглашенных (он был красив и коварен, как сатана).