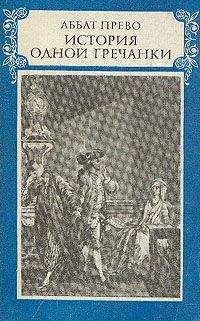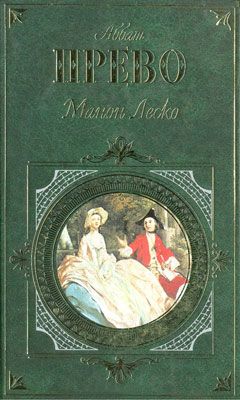— Боюсь, как бы отец не задумал что-нибудь еще ужаснее, — сказал мне юноша. — Последние дни он особенно возбужден, а это случается с ним только в крайних обстоятельствах, и я даже не решаюсь вам сказать, до какого неистовства доводят его иной раз ненависть и гнев.
Этот рассказ убедил меня в том, что Теофее будет чрезвычайно трудно добиться признания ее законных прав; но намерения ее родителя мало тревожили меня, и, что бы он ни предпринял с целью повредить ей, я надеялся без особого труда защитить девушку от его козней. Мысль эта даже побудила меня отказаться от прежнего моего намерения не говорить ему, кто я такой, или, по крайней мере, скрывать свое участие в судьбе его дочери. Теперь я, наоборот, попросил юношу повидаться с отцом в тот же день, чтобы сообщить ему, что беру Теофею под свое покровительство, а также и для того, чтобы он знал, сколь благосклонно я отношусь к юноше, которого пригласил к себе. Я распорядился немедленно подыскать двух невольников, соответствующих новым моим намерениям, и, решив в тот же вечер приступить к осуществлению своих планов, как только стемнело, отправился к учителю.
Камердинер ждал меня с нетерпением. Он едва удерживался от искушения покинуть пост, на который я его поставил, и разыскать меня, чтобы сообщить о некоторых своих наблюдениях, казавшихся ему весьма важными. По его словам, посланец силяхтара приходил с богатыми подарками, и учитель беседовал с ним весьма долго и весьма таинственно. Камердинеру, не знающему турецкого, легко было притворяться, будто он ничего не замечает; не рассчитывая что-либо понять из их разговора, он ограничился тем, что стал издалека наблюдать за ним. Особенно странным, показалось ему то, что учитель весьма охотно принял подарки силяхтара. То были драгоценные ткани и множество женских украшений. Камердинер старался узнать, как эти дары будут приняты Теофеей; он уверял меня, что, хотя не спускал глаз с двери в ее комнату, а когда она появлялась — с нее самой, он не видел, чтоб эти вещи были отнесены к ней.
Я уже так мало считался с учителем, что, не желая слышать никаких объяснений, кроме его собственных, тут же приказал вызвать его, чтобы потребовать отчета в его поведении. Он с первого же слова понял, что разоблачен. Не полагаясь ни на какие ухищрения, он решил признаться, что, с согласия Теофеи, коей поведал о своих нуждах, он взял подарки силяхтара для самого себя. Так поступил он не только с тканями, но и с драгоценностями.
— Я человек бедный, — сказал он мне. — Я объяснил Теофее, что подарки, разумеется, — ее собственность, раз они присланы ей без каких-либо условий. Но она считала себя обязанной мне за кое-какие мелкие услуги и поэтому все мне и отдала.
После этого признания мне стало понятно, почему он так охотно согласился помочь ей бежать. У меня сразу же пропало доверие к человеку, который способен на такую подлость, и, хотя я не имел права обвинять его в нечестности, я сказал ему, что теперь он уже не может рассчитывать на мое расположение. Вспылив, я совершил неосторожность. Власть, какую я имел над этим человеком, помешала мне сразу же осознать допущенную мною оплошность; впрочем, я уже решил переселить Теофею в другое место и поэтому отныне не нуждался в его услугах.
Невольники, которых я привез с собою, были посланы ко мне человеком столь надежным, что я мог вполне положиться на них. Я изложил им свои требования и пообещал, что в награду за преданность и усердие дам им вольные. Женщина была в услужении в нескольких сералях. Как и Теофея, она была гречанкой. Мужчина был египтянин, и хотя я не придавал никакого значения их внешности, обоих трудно было принять за простых невольников. Я представил их Теофее. Она благосклонно приняла их, но спросила: какая же в них надобность, раз она так недолго пробудет в Константинополе? Мы были наедине. Я воспользовался этим, чтобы посвятить ее в свой план. Но хотя я все заранее обдумал и еще льстил себя надеждой, что он будет выслушан благосклонно, все же я, против обыкновения, никак не мог подобрать подходящих слов. При каждом взгляде на Теофею меня охватывали чувства, выразить которые мне было бы куда приятнее, чем напрямик предложить ей вступить со мною в связь. Однако это смутное волнение не могло заставить меня вдруг изменить намерение, которое я принял твердо, и я довольно робко сказал ей, что, будучи крайне озабочен ее благополучием, считаю ее отъезд неосторожностью, которая не сулит ничего хорошего, и поэтому предлагаю ей другой, гораздо более приятный выход из положения, причем могу обещать ей и покой, к которому она, как видно, стремится, и полную защиту от козней Кондоиди.
— За городом у меня есть домик, весьма привлекательный как по своему расположению, так и потому, что он окружен садом редкостной красоты, — сказал я. — Я предлагаю вам поселиться в этом доме. Там вы будете свободны и всеми почитаемы. Забудьте всякую мысль о серале, то есть о постоянной неволе и одиночестве. Я буду там с вами так часто, как только позволят мне дела. Я стану привозить туда лишь нескольких друзей — французов, в обществе которых вы познакомитесь с нашими нравами. Если мои ласки, мои заботы и щедрость могут скрасить вашу жизнь, то вы убедитесь, что им нет предела. Словом, вы убедитесь в том, какая разница для женщины владеть в серале сердцем старика или жить с человеком моих лет, единственным желанием коего будет угождать вам и заботиться о вашем счастье.
Держа эту речь, я потупился, словно переоценивал власть, какую имею над нею, и словно боялся этой властью злоупотребить. Я был в то время более занят своим чувством, чем планом, который с таким удовольствием разработал, и я нетерпеливо ждал, чтобы она высказала свое мнение не столько насчет покоя и безопасности, которые я сулил ей, сколько о том, каково ее отношение ко мне. Но она медлила с ответом, и одно это уже вызывало во мне тревогу. Наконец, как бы преодолевая сомнения, от которых ей трудно освободиться, она сказала, что, хотя по-прежнему считает для себя необходимым отъезд из Турции, она согласна со мною, что в ожидании подходящего случая ей приятнее будет жить в деревне, чем в городе. Вновь повторив, как она мне признательна, она добавила, что благодеяния мои безграничны и она уже не думает о том, как вознаградить их, ибо, оказывая все эти услуги несчастной, я, конечно, ни на что не рассчитывал, а лишь следовал свойственному мне великодушию. Принимая во внимание чувства, теснившие мне грудь, естественно было бы откровенно объясниться с ней и таким образом облегчить душу, но я так обрадовался ее готовности отправиться за город, что не пытался узнать, поняла ли она мои намерения и надо ли считать ее ответ согласием или отказом; я только торопил ее уехать вместе со мною.
Она не стала возражать. Я велел камердинеру поскорее привести экипаж. Был девятый час вечера. Я рассчитывал поужинать с нею в деревне, и чего только ни ожидал я затем от этой благословенной ночи! Но едва принялся я выражать свою радость, как в комнату вошел учитель; вид у него был растерянный; отведя меня в сторону, он сказал, что силяхтар, приехавший в сопровождении только двух рабов, желает видеть Теофею. Сообщая мне об этом, учитель был страшно смущен, а я сразу не сообразил, что вельможа уже стоит за дверью.
— Отчего же вы не сказали, что Теофея не может принять его? — воскликнул я.
Все так же смущаясь, учитель ответил, что сразу не узнал силяхтара, а принял его за слугу и решил от него отделаться, сказав, что с Теофеей сейчас нахожусь я; но слова эти только укрепили силяхтара в намерении войти в дом, и он даже велел учителю доложить мне о его прибытии. Я понял, что нет возможности избежать этой досадной помехи; я дивился тому, на что любовь может толкать даже человека столь высокого ранга. Но вместо того, чтобы мысль эту обратить на самого себя, ибо ко мне она была применима не меньше, чем к силяхтару, я горевал о том, что надежды мои рушатся. Я не сомневался, что за этим кроется новое предательство учителя; не удостаивая подлеца упреками, я стал просить Теофею, чтобы она не давала никаких обещаний человеку, замыслы коего ей хорошо известны. Тревога, охватившая меня, должна была окончательно убедить Теофею в характере моих собственных намерений. Она ответила, что считает себя обязанной слушаться меня во всем и только поэтому соглашается принять сановника.
Я пошел встретить его. Он дружески обнял меня и, мило шутя насчет столь удивительной встречи, заметил, что прекрасная гречанка никак не может пожаловаться на недостаток дружбы и любви. Затем, снова повторив все, что он уже говорил мне о своем увлечении Теофеей, он сказал, что, неизменно веря в данное мною слово, будет очень рад, если я стану свидетелем предложений, которые он собирается ей делать. Признаюсь, что эта речь, так же, как и предстоящая сцена, повергли меня в сильное замешательство. Я хорошо понимал, что теперь я уже совсем другой человек, чем прежде, когда уверял его, будто только из великодушия пекусь о судьбе Теофеи. У меня уже не оставалось никаких сомнений относительно природы моего чувства к ней — поэтому как же мог я поручиться, что останусь невозмутимым свидетелем предложений и любезностей соперника? Однако приходилось безжалостно переломить себя и притом скрывать свои чувства, тем более что я по собственной воле возвел это для себя в незыблемый закон.