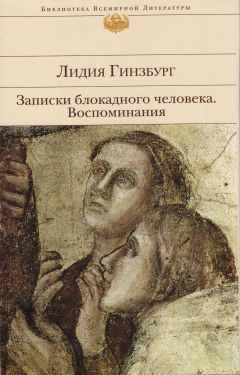О старых башмаках
Вот они – старые башмаки. Утаим, кто их хозяин, им ведь давно пора в утиль, они ничьи – износились, утратили хозяина, а с хозяином – то скромное и само собой разумеющееся предназначение, которое одухотворяло их, то скромное место, которое они занимали в сердце человека, вопрошавшего: «Где мои черные башмаки?» – и этим придававшего силу им и смысл их существованию. у них даже цвета не осталось, разве что общий цвет, которым довольствуются умирающие вещи.
Сейчас они валяются на одном из этих омертвелых дворов, какие живут при заброшенных домах. Каково им приходится? Кто они? Сказочные существа с толстой бурой кожей, у которых ни ног, ни глаз, а только черный, с вывихнутой челюстью, рот. Муравьи, впрочем, без малейшего страха заползают в их влажные пасти: для муравьев это две обычные пещеры, две безымянные бесформенные горы, два предмета, представляющие для бессчетных муравьиных глаз нечто, что никогда не осмыслило бы наше бредовое сознание. И эти существа теперь не ходят, никогда не обретут движения, зато весят. Отягчают землю всем весом земли. Их вес огромен и неизмерим.
Так думает Дядюшка Педро, выйдя розоватым вечерком на прогулку. Скрестив руки за спиной, выставив свой мило округлый живот, Дядюшка Педро в этот ясный вечер силится постичь смысл вещей, для которых еще не найден язык. Он останавливается и вновь шагает, рассеянно поглядывая на собственные старые башмаки. (Один из странных скачков мысли заставляет Дядюшку Педро вообразить, будто он одна из цирковых собачек, умеющих перекатывать лапами большие мячи, разве что мяч, который передвигает он, безмерно огромен: так мерно, так сноровисто и бесшумно катится под его старыми башмаками земля.)
В довершение всех зол блохи словно решили сжить пса со света. А ведь и без них дела его были плохи: неожиданно он наткнулся на железную преграду, которая во всю ширь и высь преграждала доступ в кафе, где в обмен на уморительную его стойку на задних лапах и виляние хвостом, который, казалось, вот-вот отвалится, ему ежедневно давали поесть. И однако, не в голоде было дело и не в блохах (блох и вовсе не было – спина зудела не от них, а от чесотки). Заставило его лечь у шершавого парапета, заставило его съежиться от студеного и соленого дыхания океана, заставило его помирать то, что у него теперь не стало его дивной клички.
Бронзовый сток для нечистот был на углу, столь скучном, что, когда кто-либо забредал сюда, глаза, утомленные всем увиденным за день, сами слипались. Внутри он был эмалированный, так что излучал довольно насыщенную синеву утра – даже казалось, что рассвет наполняет его и вечером можно погрузить в рассвет руки. Но это лишь с виду.
Кормился бронзовый сток только мертвым временем. (Однажды, когда в него по ошибке бросили собачьи объедки, окаянный подавился и кашлял так, что все обсмеялись.) Служанки молчаливо сливали в него утренние помои. Дядюшка Педро с ненавистью глядел, как он пожирает бренные останки его лучших минут: сигаретные окурки и золотую пыль девяти часов вечера.
Однажды Дядюшка не вытерпел и от всего сердца дал металлической утробе пинка. Пока Дядюшка Педро извивался от боли, бронзовый сток увлажнял горло омерзительным клекотом.
Вражда утихла через девяносто лет, когда бронзовый сток принял последний из оставшихся портретов Дядюшки Педро.
Стоит ли ему напоминать о лучших временах, если оно так замызгано да еще без одной ножки? Ни одна душа теперь не сможет добиться его расположения, ни одна душа не вникнет в этот странный способ думать, глядеть, слушать, который сводится лишь к тому, чтобы быть весом, прислушиваться всем весом тела к малейшим колебаниям земли. Когда-то у заброшенного этого кресла было пусть и одно, но доброе слово для бесед с нами, широкое, красивое, достаточное, – его форма, которой он с нами общался.
Вот оно лежит навзничь на битой черепице – его абсурдная форма, забытая людьми и им самим, разрушается. На трагически бесприютной его кончине не присутствует даже оно само.
Ох, и ведь никогда, никогда больше оно не воскреснет!
Черный ночной ветер покачивает скорбные тополиные кроны. Сильно стучат в дверь. «Это ветер трясет решетку, матушка».
Она оглядывает стол. Желтый конус света от лампы с его четкими краями сперва выхватывает ее пухлые руки, затем – белый узел волос. «Где мой наперсток, сынок?» – «Дьявол спрятал, матушка».
Затвердевшими пальцами он перелистывает семейный альбом. «Мы потеряли письма деда, матушка». Снаружи доносится протяжный крик, обрывающийся на всхлипе. «Это кот, которого застудила на крыше луна».
«А что в тот раз сказал дед, матушка?» Рука с синими жилками откладывает иголку, на которой вспыхивает блик. «Поверишь ли, я забыла». Тут-то – с глухим ударом в окно – ветер и умирает.
Он жил на чердаке и был каждый день счастлив. Единственное окно с толстыми стеклами на его чердаке походило на мудрое и смешливое око старца, который, сносив любимые ветхие башмаки, давно свыкся с кисло-сладким привкусом своих лет. Сидя у окна («Я, – говаривал он, – зрачок дома»), он разглядывал красно-пустынное пространство крыши и ниже – трубы других домов, черные, хрупкие, с заносчивыми шапочками, вместе с ним они время от времени выкуривали трубочку-другую. Спокойные, задумчивые, они и он одновременно выпускали сизый дым, и воздух тогда, весь пронизанный дымом, был на загляденье.
Кто из живущих на чердаке не поэт? Там были вещи вроде стола, и не стола даже, а чего-то грузного, что давило своими расшатавшимися ножками на пол, одновременно поскребывало по оштукатуренной стене и источало собственный свет, бесконечно разные оттенки света в зависимости от времени дня, положений или соседних предметов, которые требовали безотлагательно наречь им имя. О! Какое полное и благостное спокойствие разлилось вокруг в тот день, когда появился первый чистый лист бумаги и новоявленный поэт в первый раз обмакнул перо в чернильницу! Разбитый канделябр на умывальнике словно выпрямился, и не было необходимости оправдывать порывом ветра беспокойство старого кресла. Даже окно, казалось, смотрит вовнутрь с тайным упованием.
Все они благоговейно вслушивались в имена, которыми он их нарекал, пытаясь помочь ему, стараясь, чтобы он не задевал за их замызганные углы, через силу сдерживали хрипы и сипы, которые извлекал из них холод перед самым рассветом, когда умирает луна. А как-то вечером, когда он прогуливался по крыше и неосмотрительно приблизился к ее краю, стена внизу сама подсказала ему, как ее зовут, дабы вовремя остановить его, обезопасив тем самым от рокового спотыкания.
Вскоре все вещи вокруг приохотились слушать его голос, так что испытывали беспокойство, едва он прекращал работу. Однажды в полдень, когда он решил выйти на крышу, чтобы освежиться, он чуть не задохнулся от дыма, который одна из труб с силой выдохнула ему в лицо.
В эту ночь лист бумаги так и остался чистым. На следующий день – то же самое и на следующий – так же. Но прежняя страсть снедала его, он ослаб и осунулся и на третий день, после бесплодных попыток писать, потерял сознание и, уронив голову на стол, рассек себе лоб. Спал он дурно, страшно ломило виски, во тьме что-то неумолимо сдавливало их. Он проснулся перед рассветом, дрожал. Ему чудилось, будто кто-то следит за ним. В центре запыленного, темного в эту пору окна холодно блестел пристальный желтый зрачок.
Пойдя на крайность, он в течение семи дней говорил лишь о себе самом. Похоже, вначале вещи слушали его с интересом, потом все более рассеянно. На седьмой день его прервал сильный шум. Окно внезапно распахнулось. Весь дом зевал.
Он понял, что достиг края самого себя, и, примирившись с этим, отложил в сторону ненужное больше перо и вышел на крышу. Погребальный скрип его башмаков слишком поздно оповестил его о беде. Он наскучил им всем – пусть летит на мостовую.
Донья Энграсия, ради бога, образумьтесь! Это в ваши-то годы покупать красную миндалевидную шляпку с зелеными перьями, щекочущими ветер. Уж не вздумалось ли вам выйти в таком виде на улицу? Да образумьтесь!
Но Донья Энграсия надела ее и даже не взглянула на себя в зеркало. Села бедняжка в сторонке в старое плетеное кресло и скрестила руки на своей накрахмаленной юбке. Резкое завихрение моды, помимо других листьев, принесло точную копию фасона из молодости Доньи Энграсии. И Донье Энграсии грезится, что волосы, несущие это крылатое чудо, все еще каштановые и шелковистые, что она прогуливается по бульвару, а студенты глядят на нее.
Но если кто и глядит на нее, так это маленькая служанка, которая закатывается невероятно громким смехом.
У края дерзкой пропасти стоит дом. И живет в нем старый ковровщик с четырьмя внуками. Большие ореховые деревья нависли над окнами.