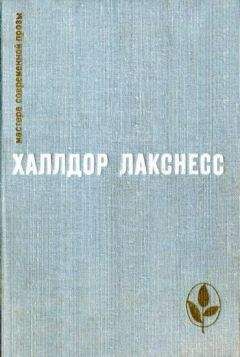— Папа велел сказать, чтобы ты осталась, он еще хочет поговорить с тобой.
— Как хорошо быть таким вот толстеньким папенькиным сынком. — Я погладила мальчика по голове и продолжала упаковывать вещи.
Я думала, что малыш, выполнив поручение, уйдет, он ведь почти не разговаривал со мной, за исключением тех случаев, когда сидел на заборе вместе с детьми премьер-министра и других важных персон и орал мне вслед: «Органистка! Замарашка! Да здравствует деревня!» Теперь он стоит около меня и смотрит, как я укладываю в сундук свое праздничное платье. И вдруг заявляет вкрадчиво-нагловатым тоном:
— Я хочу пойти с тобой на собрание ячейки.
— Тебя высекут за это, дружочек.
— Попридержи язык и возьми меня с собой на собрание ячейки. Эти проклятые коммунисты никому ничего не разрешают.
— Неужели такой хорошенький мальчик хочет стать проклятым коммунистом!
Он ощетинился.
— Не смей так разговаривать со мной, пока ты у нас в доме.
— Я могу говорить все, что мне вздумается, потому что я ухожу.
Он засунул руку в карман и вытащил несколько смятых стокроновых бумажек.
— А если я дам тебе сто крон, возьмешь меня на собрание ячейки?
— И ты думаешь, что за сто крон я соглашусь сделать из такого хорошенького бутуза проклятого коммуниста?
— Двести.
Я поцеловала его, он вытер лицо рукой. Однако продолжал повышать ставки, и, когда дошел до месячного жалованья прислуги, я не выдержала:
— Убирайся-ка отсюда, дружок! По правде говоря, надо бы сейчас снять с тебя штаны и как следует выдрать. Подумать только, такой сопляк хочет подкупить взрослого человека! И кто тебя этому научил? Ведь у тебя такой прекрасный отец.
— Как будто отец не дает взятки, когда это нужно!
Я хлопнула его по щеке.
— Тебя за это посадят в тюрьму, — сказал он.
— А у кого до сих пор завязана рука? Скажешь, не ты украл с фермы норок и перерезал им горло?
— Ты, видно, совсем сошла с ума, раз думаешь, что мне и моему кузену Бобу что-нибудь за это сделают. Мы можем все, мы можем даже стать коммунистами, если только проклятые коммунисты нам это позволят.
— Коммунисты имеют дело лишь с хорошими мальчиками.
— Я хочу испытать все. Я против всего.
Я посмотрела на него. Двенадцатилетний парнишка с голубыми глазами и вьющимися волосами выдержал мой взгляд.
— Почему, когда я иду по улице, вы выкрикиваете мне вслед ругательства?
— Просто так. Развлекаемся. Нам скучно. Мы хотим стать коммунистами.
Я покачала головой и продолжала упаковывать вещи.
— Папа велел тебе остаться. Подожди.
— Чего?
— Пока мама улетит.
— Скажи ему, что мне нечего ждать.
Я возилась с замком сундука, который никак не закрывался. Когда я подняла глаза, мальчик с шелковистыми волосами по-прежнему стоял в комнате и смотрел на меня своими ясными голубыми глазами. Он снова засунул в карман стокроновые бумажки и усиленно грыз ногти. Наконец-то я поймала его за этим занятием, о котором ясно говорили его до мяса обкусанные пальцы.
— Не уходи, останься, — попросил он без угроз, не пытаясь больше подкупить меня, попросил искренне, по-детски жалобно и немного смущенно.
И я заколебалась. Мне вдруг стало жаль ребенка. Я села на сундук, отвела руки мальчугана ото рта и прижала его к себе.
— Бедный мой мальчик!
Вверенные мне дети и их души
И вот наконец фру вместе с Кусачками улетела в Америку. Дети остались на моем попечении. Отец передал их мне за ужином, рассеянно улыбаясь и думая о чем-то другом. Я почувствовала себя женщиной, проглотившей рыбу,[27] это было похоже на непорочное зачатие.
— С этого дня я буду звать вас вашими именами, — сказала я.
— А мы будем мучить тебя, ломать тебе кости, резать на куски, — медленно проговорила старшая красавица дочь, смакуя, как конфетки, слова «мучить», «ломать», «резать».
— Ну что ж, — ответила я, — не хотите, чтобы вас звали вашими именами, я окрещу вас по-новому. Я не буду звать вас африканскими кличками. Арнгримура буду звать не Бубу, а Ландальоми,[28] Гудни не Дуду, а Альдинблоуд.[29] Тоурдура не Бобо, а Гуллхрутур,[30] а Тоургуннур — ангелочка с рождественской открытки Йоуны — не Диди, а Даггейсли.[31] Выходи-ка из кухни, Тоургуннур, и ешь вместе со всеми.
— Фру поручила девочку мне, я учу ее хорошему! — крикнула кухарка в открытую дверь.
— А я не собираюсь учить ее плохому, — ответила я.
— Что-то я не слыхала, чтобы спасители душ приходили с Севера, — возразила она.
Доктор Буи Аурланд, услышав эти слова, улыбнулся и даже оторвался от газеты.
— Неужели, — продолжала кухарка, появляясь в дверях, — доктор ради этой северянки забудет о желании, которое выразила его супруга в день отъезда?
— Гм, — сказал доктор. — Я ведь депутат альтинга от этих ужасных северян. Это мой избирательный округ. Понимаете, милая?
— Да, но разве это избирательный округ и вашей души тоже, позвольте спросить вас, господин доктор и хозяин дома?
Дети за столом веселились.
— Что скажет Угла, которой только что были вверены эти бедные дети? — поинтересовался доктор и с огорченным видом почесал в затылке. — Как она полагает, что полезнее для души — есть в столовой или на кухне?
— Если душа помещается в животе… — начала я, но кухарка прервала меня.
— Глупости. В животе нет никакой души. Душа, ради которой страдал Спаситель, помещается не в животе. Наоборот, оттуда исходит всякое зло. Все, что ниже талии, — от лукавого. Поэтому фру, моя хозяйка, сказала мне, что этот ребенок будет вкушать пищу у меня на кухне, с молитвой на устах, дабы хоть один человек в этом доме спас свою душу, подобно праведнику в Содоме и Гоморре.
— Я считаю, что душу можно спасти и в столовой, — заметила я.
— Вот видите, — вздохнул хозяин. — Нелегко рассудить Пакистан с Индией. Одно государство считает, что спасение души началось с того дня, как Магомет отправился в Мекку. Другое заявляет, что душа может быть спасена только в том случае, если родишься вторично в образе быка, или даже в образе осла, или, на худой конец, в образе рыбы. Такой спор не решишь без применения оружия. Придется обзавестись оружием, дорогая Йоуна. Я не вижу другого выхода.
Маленький ангелочек, за спасение души которого так ратовала кухарка, не упускал случая выругаться или побогохульствовать, как только добрая Йоуна отворачивалась. Я иногда удивлялась, почему ребенок так долго засиживается в уборной. Она сидела там часами и что-то упорно шептала. Сначала я думала, что это молитвы, но однажды, прислушавшись, убедилась, что это ругательства. Бедняжке были известны всего три-четыре бранных слова да еще названия некоторых частей тела, которые она узнала самым непостижимым образом. Поругавшись с полчаса в уборной, маленькая святоша выходила оттуда в прекрасном настроении и принималась играть со своими куклами. Со временем она научилась пользоваться глухотой кухарки. Сидя в углу кухни с молитвенно сложенными ручонками, она смотрела, как работает ее наставница, и шевелила губами, будто читала молитвы. На самом же деле она упражнялась в произношении слов «преисподняя» и «задница». Иногда она повышала голос, желая убедиться, как далеко она может зайти, чтобы верная слуга Спасителя не заподозрила чего-нибудь дурного.
Поскольку хозяин призван решать важнейшие проблемы нашего народа и других народов, у него всегда отсутствующий вид; даже когда он дома, он кажется чужим в своей семье, а может быть, ему просто скучно? Вот и сейчас, окончив очередную трапезу, он исчезает. Ландальоми, которого я окрестила так потому, что он порождение всего мрачного в этом мире, ушел по своим делам. Гуллхрутур отправился вместе со своими кузенами, детьми премьер-министра, выкрикивать вдогонку прохожим ругательства; может быть, перед сном они, чтобы развлечься, подглядят, где что плохо лежит. Альдинблоуд выскользнула из дому неслышно, как форель. Из кухни доносилось монотонное чтение молитв; и я отправилась к себе в комнату.
Оставшись одна, я почувствовала себя такой одинокой, что меня даже взяло сомнение — уж не влюблена ли я. А может, и не только влюблена, а даже несчастна, страдаю от любовного недуга, для которого есть название лишь в датском языке, но которое можно определить обычным анализом мочи. Уже несколько дней я чувствую, как во мне нарождаются какие-то странные силы, тело ощущает близость души, и душа из религиозного понятия делается частью тела. Жизнь становится удивительным блаженством, жадным до тошноты. Мне хочется есть и в то же время меня тошнит. Я замечаю, как изо дня в день полнею, у меня появляется какое-то незнакомое ощущение во рту, такой блеск в глазах и такой цвет лица, какой бывает у человека, выпившего два стакана вина. По утрам у меня отекает лицо, и, когда я с замиранием сердца смотрюсь в зеркало, мои подозрения и страх увеличиваются в несколько раз; я опять вспоминаю сказку о женщине, проглотившей рыбу. Иногда мне кажется, что все это страшный сон — одно видение не покидает меня ни во сне, ни наяву: я вишу на веревке над пропастью. Выдержит ли веревка?