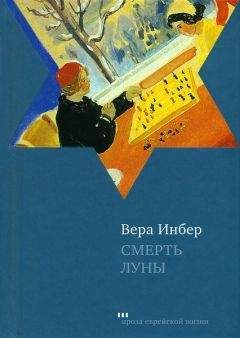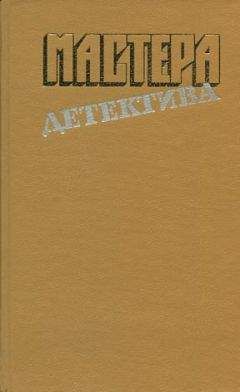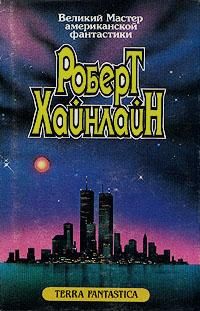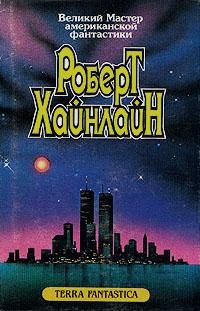А на самой луне — ни воздуха, ни воды, ни звука, ни ветра, ни прохлады, ни сырости. Одно только чередование света и тени, стужи и зноя. Ощеренные меловые бугры и черные впадины планетарного скелета.
Так вот, значит, какова была та луна, которую мы любили. Которая соединяла в себе острую хрупкость новорожденного месяца с округлостью детской щеки.
Однажды на уроке «Фома» объявил нам, что завтра вечером, если небо будет чисто, мы должны будем собраться в гимназии, где нам впервые по-настоящему будет показана луна.
Телескоп привезли и поставили без нас. Это был небольшой и не слишком сильный старый университетский телескоп. Придя вечером, мы сразу ощутили необычное присутствие прибора, которому дано общаться со звездами.
Он стоял на нашей площадке: трехногий, худенький, чудной. В нем было нечто старинное и привлекательное. Его нельзя было двигать.
Все было необычно в тот вечер. Необычен был воздух, слишком теплый для осени. Здание гимназии, преображенное тишиной и пустотой: классные парты пахли пылью и запустением, и паркет стонал у нас под ногой.
Днем мы никогда не слыхали этих паркетных стонов.
А над всем этим: над темной гимназией, над падающими листьями, над дыханием земли и моря, над нашими черными передниками и туго заплетенными косами, над юностью нашей, стоял месяц первой четверти. Он был велик, тонок и прохладен. С одной стороны он обтекал легкий шар луны, затененный ночью.
Первым к телескопу подошел сам «Фома». Он нагнулся к трубе: мы увидели его согнутую спину. Он повертел какой-то винтик сбоку. Все было в порядке, и мы стали подходить по очереди.
Сначала глаз наш, неумело прижатый к стеклу, увидел только фактуру самого стекла: царапины и линии, действительные или воображаемые.
Но потом мы увидели луну, и луна поразила нас. Она состояла из тишины и светотени. Тишина луны была такова, что мы услыхали ее, стоя на Земле. Меловые кратеры, не утепленные ничьим дыханием, были залиты пустынным и печальным светом. Каждый из них отбрасывал неимоверно скошенную тень. Каждая такая тень сливалась с другой тенью другого кратера. Поверхность лунная была вычерчена бело и черно, как не бывает на живой планете. Здесь прошла вечность и усмирила борения красок.
Легкий гул, как вздох, пробежал по площадке. И «Фома», сдвинув очки, запросил нас: «Что то есть за смута?» Мы не ответили ему, мы не могли ответить. Мы сами не знали, в чем было дело. А дело было в том, что мы глубоко и болезненно были уязвлены луной.
Учитель наш обронил неосторожную фразу о том, что когда-нибудь со временем, через неоглядный ряд тысячелетий, Земля наша будет так же мертва, как луна. Остальное мы дочувствовали сами.
Значит, и на ней, на нашей Земле, лягут черные тени, словно колонны рухнувших культур. И все мы, еще живые и уже мертвые, все мы, начиная от Аттилы, «бича человечества», о котором мы учили совсем недавно, и кончая Розой Вигдорчик, все мы, и бичи и розы, равно осядем легким и ноздреватым пеплом на мертвой планете.
Впервые мы подумали о смерти, и это ранило нас.
«Не все ли равно тогда, как жить? — спросили мы себя. — И зачем же тогда жизненные трудности? Зачем стараться делать то или иное? Зачем нужно мучить себя ранним вставанием зимой, когда в постели так тепло и дрова стреляют в печи? И зачем ложиться так рано весной, когда море тихо и лодка ждет у купальни?»
Так думали мы, и постепенно эти мысли начали претворяться в действие. Наш класс, бывший до того времени как все классы, получавший свою долю замечаний и двоек, но в дозволенных количествах, вдруг резко изменился.
Мы стали шалить отчаянно и зло. Мы полюбили мяукать на разные голоса. И вся гимназия огласилась писком, визгом и мяуканьем целого полчища кошек. Мы отказывались отвечать уроки, нагло уверяя, что забыли книгу, потеряли тетрадь, что у нас болит голова и что нам ничего не было задано. Уличенные во лжи, мы спокойно шли на свое место и, грызя карамель, начинали играть в «крестики и нолики».
Особенностью того периода нашей жизни было насмешливое и недоброе отношение к учителям. Особенно невзлюбили мы «Фому». Мы не могли простить ему… чего? Мы сами не знали. Но очевидно, тут была и луна, отнявшая у нас веру в Землю, и воробей, погибший так мучительно — с какой стати? Особенно воробей. Действительно, во имя чего была задушена птица? Какой смысл имел этот безвоздушный и бездушный опыт, этот пресловутый «огонь познавания», которому все равно дано было погаснуть в мертвом холоде? Мы забирались все дальше в эти мысли.
Хуже всего было то, что мы сами не понимали, отчего нам плохо. Начали вызывать в гимназию родителей для объяснений.
Испуганные наши матери и отцы вполголоса совещались в приемной. Они и сами заметили перемену в детях, но причина была им так же непонятна, как и всем. Как и нам самим.
Шуру Харитонову, белокурую девочку с голубыми глазками, сироту, жившую у крестной, потребовали к начальнице. Там же сидела и крестная, в тальме, держа в руках ридикюль и поджав чиновничьи губы. На груди начальницы были обе ее медали, золотая и серебряная: признак высокой торжественности момента.
Начальница заговорила. В присутствии крестной, этой «достойной женщины, вырастившей сиротку», начальница спросила Шуру, как это случилось, что она, Харитонова Александра, кроткая и религиозная воспитанница среднего учебного заведения, повела себя так дурно и превратилась в отпетую лентяйку и озорницу.
Шура Харитонова, откинув с груди на плечо белокурую косицу, ответила, что она не знает, но что ей за последнее время «все чего-то тошно».
Начальница и крестная переглянулись.
Гимназический врач велел Шуре высунуть язык и надавил его ложечкой. Он спросил Шуру об ее аппетите и сне. Аппетит был хорош, по мнению крестной, даже слишком хорош. Язык был розов. Подложка безболезненна.
Таким образом, тайна осталась тайной.
А между тем осень шла своим чередом, но шла тревожно. Она давала трещины, раскалывалась неожиданными событиями. Вспыхивали демонстрации: власти гасили их выстрелами и шашками. Скончалась от тяжелых ранений работница. Ее хоронили в беспросветно дождливый день. Полиция потребовала спокойствия: оно было ей обещано. Сумрачная толпа безмолвно следовала за гробом. Но это молчание было красноречивее слов.
Все это проходило мимо нас, не будоража мыслей, не ускоряя биенья сердца. Атмосфера накалялась, а мы в своей прохладной лунной скорлупе никак не могли пробиться к жизни.
4
У нас в квартире моя комната была лучше всех. Пол ее, лежащий как раз над подворотней, был настлан особенно высоко, чтобы не дуло. Благодаря этому из коридора в комнату вели четыре ступеньки, а окно доходило до пола.
Улица, где мы жили, была невесела и официальна. На ней были расположены городские училища, богадельня, приют для подкидышей, две церкви и артиллерийский склад. Днем все это угнетало, но вечером, погасив свет, великолепно было сидеть на моем окне, как на водоразделе двух течений: улицы и комнаты.
Улица, неприятная днем, в этот час хорошела. Без пешеходов и лавок, легко тронутая огнями, она текла свежим потоком к окраинам.
Чаще всего приходили ко мне Зоя Ратацци и Оля Шумахер. Сидя втроем на широком и низком подоконнике, мы говорили о будущем.
— Как ты думаешь, что с тобой будет через десять лет? — спрашивали мы друг друга.
— Через десять лет, — мечтательно говорила синеглазая Ратацци, — я буду в Италии. Это родина моих родных, которую я не знаю. Я буду жить в Риме, в Вечном городе. У меня будут там старинные вещи, и я буду очень счастлива.
— Через десять лет, — захлебывалась кудрявая Оля Шумахер, — я, наверное, выйду замуж. Я выйду замуж за одного… я вам не скажу. И я буду очень счастлива.
— Через десять лет, — говорила я, — я буду очень счастлива.
Постепенно эти разговоры прекратились. Какое значение имели теперь для нас «десять лет» и даже «Вечный город», с его смехотворным эпитетом, по сравнению с той подлинной вечностью, которая обрушилась на нас с луны!
И все же наступил такой вечер, когда мы снова втроем, как прежде, собрались у меня в комнате. Шел восьмой час, но было темно. С окраин, с лиманных солончаков надвигалась осень. В пути налетал на нее крепкий морской ветер, мял ее, хватал, тряс, ворошил над городом — только сыпались вороньи перья и летели косые капли. Нехорошо на юге в ноябре.
Мы зажгли лампу, занавесили окно, и течение улицы оборвалось для нас; осталась комната, согретая нашими дыханьями. Укрытые от всего внешнего, от лунных влияний и земных ветров, замкнутые в светлом кругу лампы, мы как бы снова нашли утраченное спокойствие. Мы начали улыбаться, и прежние мысли начали приходить нам в голову.
— Как вы думаете, что с нами будет через десять лет? — спросила Оля, сладко щурясь на свет.
— Через десять лет, — мечтательно сказала синеглазая Зоя, — я буду в Италии. Я буду… — Она остановилась. — Как будто кричат на улице. Крикнули вот только что.