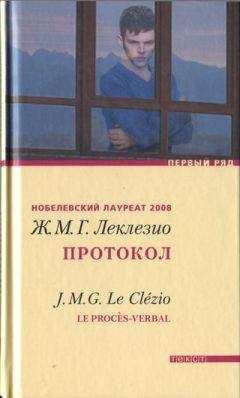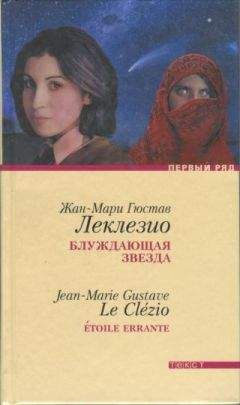Чтобы справиться с растущим чувством тревоги, мы с Лорой уходим всё дальше и дальше от дома, через плантации, к самой кромке лесов. Нас манит сумрачная долина Мананавы, и каждый день мы идем туда, где живут «травохвосты», что кружат высоко в небе. Но и они куда-то пропали. Я думаю, их унес ураган — подхватил и разбил о горы или забросил так далеко в море, что им не найти дороги назад.
Каждый день мы высматриваем их в пустом небе. А в лесу стоит жуткая тишина, будто ветер вот-вот вернется снова.
Куда идти? Здесь больше нет людей, не слышно ни лая собак на фермах, ни детских голосов у ручьев. В небе не видно дымов. Взобравшись на креольскую пирамиду, мы всматриваемся в горизонт в стороне Кларенса, Вольмара. Дыма нет. И на юге, в Ривьер-Нуаре, в небе нет никаких следов. Мы ничего не говорим друг другу. Стоим под полуденным солнцем и смотрим на море, там, вдали, смотрим до боли в глазах.
Вечером с тяжелым сердцем мы возвращаемся в Букан. Наш разбитый корабль по-прежнему стоит, наполовину завалившись на влажную еще землю, среди останков разоренного сада. Мы потихоньку проскальзываем в дом, босиком ступая по паркету, покрытому слоем скрипучей пыли, но отец даже не заметил нашего отсутствия. Проголодавшись за время долгих скитаний, мы едим что придется: собранные в других имениях фрукты; яйца; присохшие ко дну котелка остатки риса, который варит по утрам отец.
Однажды, когда мы были в лесу, к Мам приехал Кёниг, врач из Флореаля. Лора первая заметила в дорожной грязи отпечатки, оставленные колесами его экипажа. Я не решаюсь идти дальше и жду, трясясь от страха; Лора же бежит к веранде и запрыгивает в дом. Когда я наконец тоже захожу в дом — с северной стороны, — я вижу Лору и Мам. Лора обнимает ее, положив голову ей на грудь, а Мам улыбается, несмотря на слабость. Потом идет в уголок, где стоит спиртовка, чтобы разогреть нам рис и приготовить чай.
— Ешьте, дети, ешьте. Уже поздно. Где вы были все это время? — она говорит быстро, натужно улыбаясь, но рада по-настоящему. — Мы скоро уедем, мы покидаем Букан.
— Куда мы едем, Мам?
— Ах, мне не следовало бы вам этого говорить, это еще не точно, еще ничего не решено. Мы поедем в Форест-Сайд. Ваш отец нашел дом, неподалеку от тетушки Аделаиды.
Она прижимает нас к себе, и мы ничего не чувствуем, кроме ее счастья, и не думаем больше ни о чем.
Отец снова уехал в город, вместе с Кёнигом, в его экипаже. Должно быть, он занят приготовлениями к переезду, готовит наш новый дом в Форест-Сайде. Чем на самом деле занимался он тогда, оттягивая момент, когда наступит неизбежное, я узнал позже, увидев бумаги, подписанные им у городских ростовщиков, векселя, ипотечные кредиты, закладные. Все возделанные и невозделанные земли Букана, сад, леса, даже дом — все было заложено, продано. Ему было не выпутаться. Последние свои надежды вложил он в эту безумную идею — генератор в Эгретт, который должен был стать источником прогресса для всей западной части острова, а стал лишь затонувшей в грязи кучей железок. Как могли мы понимать это тогда — мы, всего лишь дети? Но нам и не надо было ничего понимать. Мало-помалу мы догадывались обо всем, чего нам недоговаривали. Когда пришел ураган, мы хорошо знали, что все уже потеряно. Это как Всемирный потоп.
— А когда мы уедем, здесь будет жить дядя Людовик? — спрашивает Лора. И в ее голосе столько возмущения и горя, что Мам не отвечает. Она отводит глаза.
— Это он! Он во всем виноват! — говорит Лора. Хоть бы она замолчала. Но Лора побледнела и вся дрожит, и голос ее дрожит тоже: — Я ненавижу его!
— Замолчи, — говорит Мам. — Ты сама не знаешь, что говоришь.
Но Лора не унимается. Впервые в жизни она противится Мам, пытаясь защитить все, что мы любим: этот разрушенный дом, этот сад, большие деревья, наш овраг и более того — темные горы, небо, ветер, что доносит шум моря.
— Почему он нам не помог? Почему ничего не сделал? Почему он так хочет, чтобы мы уехали? Чтобы забрать наш дом себе?
Мам сидит в шезлонге, в тени разрушенной веранды, как раньше, когда собиралась читать нам из Священной истории или устроить диктовку. Но сейчас… Столько времени утекло за один-единственный день, мы знаем, что ничего из этого никогда больше не будет. Потому-то и кричит Лора, потому-то и дрожит ее голос и глаза наполняются слезами от боли:
— Почему он всех настроил против нас? Ему достаточно было сказать одно слово, он ведь такой богатый! Почему он хочет, чтобы мы уехали? Чтобы забрать наш дом, наш сад и насадить везде свой тростник!
— Замолчи, замолчи! — кричит Мам. Ее лицо искажено гневом, отчаянием.
Лора больше не кричит. Она стоит перед нами, ей стыдно, в глазах сверкают слезы, и вдруг она разворачивается, выпрыгивает в темный сад и убегает. Я слышу, как хрустят сломанные ею на бегу ветки, а потом наступает ночная тишина. Я бегу за ней:
— Лора! Лора! Вернись!
Я обыскиваю все вокруг, но ее нигде нет. И тогда, подумав, я понимаю, где она, — будто вижу ее сквозь заросли. Ведь это последний раз. Она в нашем секретном месте, по ту сторону разоренного поля масличных пальм, забралась на толстую ветку повисшего над оврагом тамариндового дерева и слушает, как течет вода. Овраг будто подернут пеплом, там уже стемнело. Переговариваются между собой вернувшиеся на ночь птицы, стрекочут насекомые.
Лора не забралась на ветку. Она сидит на большом камне, рядом с тамариндом. Ее голубое платье испачкано грязью, ноги босы.
Я подхожу, но она не двигается. Она не плачет. У нее упрямое лицо, я люблю, когда она такая. Думаю, она рада, что я пришел. Я сажусь рядом и обнимаю ее обеими руками. Мы разговариваем. Не о дяде Людовике, не о нашем скором отъезде — нет. Мы говорим о другом — о Дени, словно он вот-вот придет и принесет, как бывало, разных диковинных штук: черепашье яйцо, перо с головы маврикийского дрозда-конде, зернышко томбалакоки или морские трофеи — ракушки, камешки, кусочки янтаря. Еще мы говорим о Наде Белой Лилии, много говорим, потому что ураган уничтожил все наши газеты, сдул их, унес куда-то, может, на самую вершину гор. Когда становится совсем темно, мы забираемся, как раньше, на наклонный ствол и сидим так, ничего не видя, свесив в пустоту руки и ноги.
Эта ночь длится долго, как все ночи перед большими путешествиями. Ведь это первая наша поездка за пределы долины Букана. Мы лежим на полу, закутавшись в одеяла, и смотрим на колеблющийся свет ночника в конце коридора. Нам не уснуть. Если мы и погружаемся в сон, то лишь на какое-то мгновение. В ночной тишине слышно, как шуршит длинное белое платье Мам, когда она ходит по пустому кабинету. Мы слышим, как она вздыхает, но вот она снова садится в кресло у окна, и мы засыпаем.
На заре вернулся отец. С ним — повозка, запряженная лошадью, и незнакомый мне индус из Порт-Луи — высокий, худой человек, похожий на моряка. Отец с индусом грузят на повозку уцелевшую после урагана мебель: несколько стульев, кресла, столы, шкаф из комнаты Мам, ее медную кровать и шезлонг. Затем наступает очередь сундуков с документами о кладе и одеждой. Для нас это не настоящий переезд, потому что нам почти нечего брать с собой. Все наши книги, игрушки пропали во время бури, погибли и связки газет. У нас нет другой одежды, кроме той, что надета на нас теперь, грязной, изодранной во время долгих блужданий по зарослям. Так даже лучше. Что нам брать? Разве возьмешь с собой сад с его прекрасными деревьями, стены нашего дома и его небесно-голубую крышу, хижину кэптена Кука, холмы — Тамарен и Звезду, — горы, да сумрачную долину Мананавы, где живут два «травохвоста»? Мы стоим на солнце, а отец грузит на повозку последние вещи.
Примерно через час, даже не позавтракав, мы отправляемся в путь. Отец едет впереди, рядом с возницей. Мам, Лора и я сидим под брезентовым навесом среди раскачивающихся стульев и ящиков, в которых побрякивает то, что осталось от нашей посуды. Мы даже не пытаемся смотреть через дырки в брезенте на удаляющийся пейзаж. Вот так мы и уезжаем в среду, 31 августа, покидаем наш мир — потому что иного мира мы не знали, — теряем все, что у нас было: большой дом в Букане, где мы родились; веранду, где Мам читала нам Священную историю — про Иакова, боровшегося с Ангелом, про найденного в тростниках Моисея; теряем этот сад, пышный, как Эдем, с его баньянами, гуайявами, манговыми деревьями; теряем овраг с повисшим над ним тамариндом, большое дерево чалта — древо добра и зла, Звездную аллею, ведущую к месту, откуда видно больше всего звезд. Мы уезжаем, оставляем все это и знаем, что ничего этого никогда больше не будет, потому что путешествие без возврата — это как смерть.
С этого времени жизнь моя проходит в обществе Неизвестного Корсара, или, как называл его мой отец, Приватира. Все эти годы я думал, мечтал о нем. Он делил со мной мою жизнь, мое одиночество. Он всегда был рядом со мной — в холодном дождливом сумраке Форест-Сайда, затем в Королевском коллеже Кюрпипа. Он, Приватир, человек без лица, без имени, бороздивший когда-то моря и океаны, захватывавший со своими морскими разбойниками португальские, английские, голландские суда, а затем, в один прекрасный день, бесследно исчезнувший, так что от него остались лишь эти старые бумаги, карта безымянного острова да какая-то криптограмма, начертанная странной клинописью.