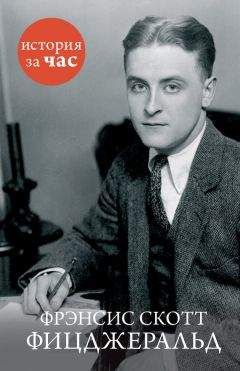Проживал он тогда в общежитии Христианской ассоциации молодежи, но когда с выделкой дамских шуб из мышиных хвостов было закончено, двинулся к центру города и почти сразу получил место репортера в «Сан». Он продержался там около года, время от времени пописывая на сторону — впрочем, без особого успеха, — пока однажды банальнейшая случайность не оборвала его газетную карьеру навсегда. Как-то в феврале ему поручили сделать репортаж о параде кавалерийского полка. Но, убоявшись метели, вместо того чтоб куда-то ехать, Дик славно вздремнул у камина, а когда проснулся, сочинил прекрасную заметку о приглушенном топоте лошадиных копыт по свежевыпавшему снегу. Так все и пошло в номер. А на следующее утро редактору отдела новостей вернули копию статьи с лаконичной пометкой: «Уволить того, кто это писал». Оказалось, что конный полк, тоже убоявшись снегопада, перенес парад на другой день.
Неделей позже он начал писать «Демона-любовника».
В январе, который, как известно, является понедельником года, нос Ричарда Кэрэмела имел обыкновение быть синим той сардонической синевой, в которой угадывались отблески негасимого пламени, лижущего грешников. Книга его была почти готова, но, по мере того как она обретала завершенность, росли, казалось, и ее требования к автору; высасывая из него все силы, она обретала над ним все большую власть, пока Дик, обессиленный этой борьбой, не стал ее покорной тенью. Свои не лишенные хвастливости надежды, мгновенно переходящие в мучительную неуверенность, он изливал не только на Энтони и Мори, но и на любого, кого мог залучить себе в слушатели. Он обзванивал вежливых, но не скрывавших своего недоумения издателей, втягивал в обсуждение своего романа случайных визави в Гарвард-клубе, а Энтони даже утверждал, что в один из воскресных вечеров случайно видел, как в промерзлом, полуосвещенном уединении одной из станций подземки в Гарлеме Дик обсуждал план переделки второй главы с грамотного вида контролером. И вот последним среди его конфидентов стала миссис Гилберт — между ними не редкостью были интенсивные словесные перепалки, длившиеся не один час и бросавшие их от билфизма к литературе.
— Вот уж Шекспир , вне всякого сомнения, был, — уверяла она его с застывшей на лице напряженной улыбкой. — Да! Он был билфист. Это доказано.
Дик мог озадачиться, но не сильно.
— Если ты читал «Гамлета», то не мог этого не заметить.
— Ну, он… он жил в эпоху, когда людей легче было заставить верить во что-то. В более религиозную эпоху.
Но ей нужен был весь каравай.
— Естественно, но, видишь ли, билфизм — это не религия. Это научная основа всех религий. — Она взирала на него с вызывающей улыбкой. Это был славный девиз ее веры. В самом сочетании этих слов было что-то настолько захватывавшее ее ум, что дальнейших рассуждений уже не требовалось. А вообще-то она не прочь была принять любую идею, лишь бы та уживалась с этой блестящей формулой; да и сама по себе эта формула таковой не являлась, а была, по сути, reductio ad absurdum всех возможных формул.
Наконец, зато во всем великолепии, наставала очередь Дика.
— Наверняка вы слышали о новой поэтической волне. Не слышали? Ну, это довольно многочисленная группа молодых поэтов, которые отбрасывают старые формы и у них очень неплохо получается. Так вот, я своей книгой собираюсь начать новую волну в прозе, что-то вроде ренессанса.
— У тебя обязательно получится, — сияла миссис Гилберт. — Ты обязательно начнешь. В прошлый вторник я была у Дженни Мартин, она гадает по руке; ты знаешь, все просто без ума от нее. Я ей сказала, что мой племянник завершает сейчас некую работу и она сказала, что рада мне сообщить, что работу эту ожидает необыкновенный успех. А ведь она никогда тебя не видела и ничего о тебе не знает, даже как тебя зовут.
Издав подобающие звуки, призванные выразить его изумление по поводу сего невероятного феномена, Дик, словно опытный регулировщик, повернул течение разговора в нужное ему русло.
— Я действительно увлечен этой работой, тетя Кэтрин, — уверил он се. — На самом деле. Все друзья подшучивают надо мной; сам понимаю, что это смешно, но мне все равно. Я считаю, что человек должен уметь терпеть насмешки. И это лишь придает мне решимости, — заключил он сурово.
— Я все время говорю, что у тебя очень древняя душа.
— Может быть. — Дик уже достиг той стадии, когда бороться нет сил, остается только покориться. Да, у него просто должна быть очень древняя душа, настолько древняя, что вся давно уже сгнила, представил он, дурачась. Однако, всякий раз повторение этих слов почему-то смущало его и по спине бежали неуютные мурашки. Он поспешил сменить тему.
— А где же моя славная кузина Глория?
— Где-то, с кем-то, в своей постоянной беготне.
Дик помолчал, размышляя, потом, скривив лицо в то, что, скорее всего, призвано было стать началом улыбки, но окончилось отчаянно хмурой гримасой, изрек:
— Мне кажется, мой друг Энтони Пэтч в нее влюбился.
Миссис Гилберт встрепенулась, с полусекундным запозданием просияла и тоном героини детектива выдохнула: «Неужели?»
— По-моему, — уточнил Дик самым протокольным тоном. — Она первая девушка, с которой он столько встречается.
— Ну, что ж, это вполне естественно, — сказала миссис Гилберт с наигранной беспечностью. — Глория никогда не посвящает меня в свои тайны. Она очень скрытная. Но, между нами, — она предусмотрительно склонилась к нему, всем видом показывая, что решила поделиться этим признанием только с небом и племянником, — между нами, я так хочу, чтоб она наконец угомонилась.
Дик встал и с весьма сосредоточенным видом принялся расхаживать по комнате, этакий небольшой, подвижный и уже округлый молодой человек с нелепо вдавленными в оттопыренные карманы пиджака кулаками.
— Я не настаиваю, что это именно так, учтите, — убеждал он по-гостиничному безликий офорт, висевший на стене напротив и подобострастно ухмылявшийся в ответ. — Я не скажу ничего такого, чего не знала бы сама Глория. Но думаю, что Неистовый Энтони к ней очень неравнодушен. Он постоянно говорит о ней. В ком-нибудь другом это было бы дурным знаком.
— У Глории очень юная душа, — с подъемом начала миссис Гилберт, но племянник прервал ее торопливой тирадой:
— Да уж, совсем юная и глупая, если не выйдет за Энтони. — Он оборвал свое хожденье и обернулся к ней с лицом искаженным и напряженным до такой степени решимости, что очертания его больше всего наводили на мысль о карте военных действий, испещренной линиями и значками — искренностью он готов был оправдать бесцеремонность своих слов, — Глория — взбалмошная девчонка, тетя Кэтрин. Она просто неуправляема. Не знаю как она этого добилась, но за последнее время вокруг нее скопилось множество самых неподобающих друзей. Но ей это, кажется, все равно. А те мужчины, в обществе которых она регулярно появлялась по всему Нью-Йорку… — Он остановился, чтоб перевести дыхание.
— Да, да, да, — отозвалась миссис Гилберт, вяло пытаясь скрыть огромный интерес, с которым слушала.
— И вот, — продолжал сурово Ричард Кэрэмел, — мы пришли к тому, что имеем. Я хочу сказать, что мужчины, которым оказывала предпочтение Глория, вообще люди, с которыми она общалась, были всегда вне всяких сомнений. А теперь это не так.
Миссис Гилберт часто-часто заморгала, грудь ее всколыхнулась, наполняясь воздухом, замерла на долю секунды, и вместе с выдохом дала волю целому потоку слов.
Да, ей обо всем этом известно, кричала она шепотом; да, да! От матерей не укрываются такие вещи. Но что она может поделать? Он ведь сам знает Глорию и достаточно представляет себе ее натуру, чтоб понимать, как безнадежны попытки вразумить ее. Глория с самого раннего возраста была балованным ребенком, с ней просто не знали, что делать. Например, ее до трех лет кормили грудью, хотя к тому времени она могла бы, наверное, разжевать и деревяшку. Возможно поэтому — точно ведь никогда не знаешь — она такая здоровая и крепкая. Потом, как только ей исполнилось двенадцать, вокруг появилось столько мальчиков, что буквально шагу негде было ступить. С шестнадцати лет она стала ходить на танцы; сначала в школы, потом в колледжи, и везде, где бы она ни появлялась — мальчики, мальчики, мальчики. Первое время, да, лет наверное до восемнадцати, их было столько, что, казалось, она не делает между ними никакого различия; потом начала выбирать.
Ей известно, что за эти три с небольшим года была целая вереница более-менее серьезных увлечений, возможно, что-то около дюжины. Иногда это были студенты старших курсов, порой — только что закончившие учебу молодые люди; длилось это, в среднем, по нескольку месяцев, перемежаясь более кратковременными увлеченностями. Один или два раза это продолжалось дольше чем обычно и мать надеялась, что дело идет к помолвке, но всегда появлялся новый… потом еще один…