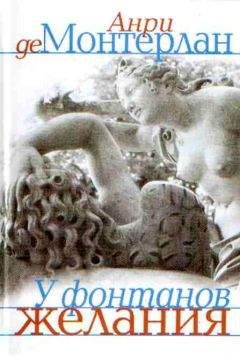Можно ли назвать неудачей состояние человека, который сумел добиться всего? Нельзя, конечно, и, однако, состояние это напоминает унылую равнину, на которой уже не растет желание. Когда люди и вещи сопротивлялись вам, у вас еще оставалась радость победы. Но вот победа достигнута, и что вам делать теперь? Поддерживать набранную скорость, то есть мало-помалу замедлять движение. Вот одно из преимуществ религии: до самой смерти человек хочет, но не смеет совершить поступки, которые ему возбраняются, поэтому в нем всегда живет мечта. А язычник мог с легкостью получить что угодно, и в этом была его беда: если все делается слишком легко, уже ничего не хочется делать. Исполнение желаний таило в себе опасность: в определенном возрасте каждый мог сказать: «Я уже не найду ничего лучшего, нежели то, что успел получить». И многие лишали себя жизни, ибо жить вполнакала казалось им бессмысленным. Разумеется, это было весьма возвышенное состояние души. А я не люблю возвышенных состояний души, они всегда так вульгарны! Увы! Хоть я слишком плохо и слишком мало читал романтиков, все же вынужден признать: я их неблагодарный сын.
Жизнь — не осуществление, но желание. Я и раньше догадывался об этом, а теперь знаю по собственному опыту.
Вот и святой Иоанн говорит: жизнь — это любовь. Заметьте, он поостерегся сказать, что жизнь — это обладание.
В ночь накануне моего двадцатилетия мне приснилось (честное слово!), что я поймал орленка. Борясь с ним, я вскарабкался по лестнице. Вошел к себе в комнату и бросил его на кровать. И тут, расправив ему крылья, увидел, что в поросших мягким пушком углублениях под крыльями и на пушистой груди, которая у орлов местами такая же мягкая, как у людей, кишат паразиты. Я содрогнулся и отпустил его. Это означает, что орлы прекрасны, когда их разглядываешь в небе, а не на кровати, — а также подразумевает множество других подобных истин, которые нам внушают долгими веками, но доходят они до тебя, лишь, когда постигнешь их на собственном опыте.
Наверно, желать можно не только чего-то одного. Возможно, мои самые могучие желания сосредоточивались в области чувств. Возможно, моим единственным стремлением было получить от моих чувств больше, чем получают остальные.
А как же творчество? — скажете вы. Я не отрекаюсь от него. Но я не кабинетная крыса. И никогда не ограничу себя одними интеллектуальными упражнениями.
Слава, скажете вы. Но я уже поделился (в «Смерти Перегрина») своими соображениями по этому поводу.
Уважение «горстки достойных», скажете вы. Да, конечно, только вот однажды вы случайно узнаете, кто еще, наряду с вами, пользуется этим самым уважением «достойных». И если прежде вы ужасно им гордились, то теперь оно вам совершенно ни к чему. «Если я еще раз увижу вас за этим занятием, граф, то скажу вам, кто ваши сотоварищи»{13}.
Власть, скажете вы. Но обладать властью — опять-таки значит иметь дело с людьми. И я, пожалуй, предпочту смиренный удел, который позволит мне пребывать в уединении. «Я не стану жить в волчьей стае, даже ради того, чтобы быть вожаком», — говорит Манфред[18]. Даже тот, кто стремится помыкать себе подобными, оказывает им непомерную честь. (И вовсе не обязательно претерпеть обиду от человечества, чтобы возненавидеть его до такой степени). Окружающий мир слишком глуп, трофеи, которые он нам сулит, слишком жалки, правила в современном обществе слишком удобны, — мы нигде не встречаем трудностей. Я презираю самую возможность управлять людьми, хоть силой, хоть подкупом. Не брать свое, когда оно само идет в руки, — это выбор, достойный мужчины. Презрение — более благородное чувство, чем желание.
(Впрочем, власть все-таки штука небесполезная: можно ведь обращать ее против людей).
Любовь к прекрасному созданию, скажете вы. Но горечь наполняет мне рот, как подумаю, скольким я уже говорил «Дорогая детка…» за те пятнадцать лет, что мне довелось осыпать поцелуями лица и тела, и я диву даюсь: почему это губы мои до сих пор не стерлись, а кожа вокруг не покраснела и не растрескалась? И сохраняет ли нежность свою цену после такого долговременного употребления? Вот подходящий сюжет для романа: герой, снова встретивший любовь, отказывается от нее, потому что чувства, слова, жесты, — все это служило ему столько раз, что теперь уже кажется недостойным, оскорбительным для его избранницы. А название будет такое: «Из старого новое не построишь».
Любовь к Богу, скажете вы. Что ж, в крайнем случае, я удовлетворюсь любовью к Богу. Но это будет уже не тот католицизм на итальянский лад, которого я держался прежде, а настоящий, строгий католицизм. Однако пусть сначала Бог даст мне веру, ведь без этого нельзя.
В былые времена тревога у людей возникала от чувства неудовлетворенности, сегодня их тревожит чувство сытости. И чтобы немного успокоиться, им нужна какая-нибудь страсть.
* * *
Вот о чем я размышлял, прогуливаясь по парку в Аранхуэсе. Подобные мысли вполне уместны в резиденциях, построенных пресыщенными королями. Как лошадь, ведомая инстинктом, находит пастбище, так и я, повинуясь инстинкту, нахожу места, где смогу насытиться одиночеством, то есть веществом, которое сам же и вырабатываю. И расхаживаю там, опустив глаза, — доказательство того, что я смотрю внутрь себя. Но и так, с опущенными веками, я все же вижу водоемы, аллеи, кусты. И от их вида душа моя переполняется горем и счастьем, как бывало раньше, когда я возвращался с прогулки в парке Сен-Клу.
Мне встретился окровавленный прохожий, и у меня возникло неудержимое желание прикончить его.
У меня есть подписанная губернатором бумага, в коей сказано, что мне дозволяется посетить сады и дворцы, «при условии, что в резиденции не будет Их Королевских Высочеств». Я все понял, губернатор. Но как вы догадались, что мне неохота встречаться с Их Королевскими Высочествами?{14}
Мне нравится, что при посещении каждого сада, каждого дворца от этой бумаги отрезают маленький талончик. Всякая радость, которая выпадает мне теперь, обедняет мое будущее: и мне по душе, что эта закономерность выражается в такой простой, наглядной форме.
На талонах указано, когда можно посетить эти достопримечательности, причем время для посещения всякий раз свое. Но я не обращаю на это внимания. Я приехал, чтобы осмотреть сады и дворцы, но нисколько не огорчусь, если ворота захлопнут у меня перед носом. Как если бы женщина сказала мне: «Вечером я приду», а я ответил: «Придешь или нет — все равно».
Случайно я забрел в Королевский дворец. Хитрый коротышка Карл IV отрекся там от престола. Какая чудесная возможность зажить новой жизнью! Должно быть, лишившись власти, он вначале ощутил некую пустоту в душе, почувствовал себя обделенным. Мудрец знает, что делает, когда время от времени удаляет от себя возлюбленную: иначе бы страсть к ней давно угасла. Бывает, я наношу оскорбления самым близким друзьям; мы ссоримся, и это в известной степени разнообразит наше существование.
Подъезжая к Аранхуэсу, я стал высматривать город среди обширных пространств, опустошенных монархией и одиночеством, — эти два слова как будто стали синонимами, — где солнце и плотный слой пыли на дороге уже сейчас, в марте, при температуре не выше пятнадцати градусов, дают представление о том, каково здесь будет через несколько месяцев, при сорока семи градусах в тени. Что в Аранхуэсе восхитительно, так это английские лошади, проносящиеся вдалеке по Кастильскому плоскогорью под ветвями огромных старых вязов, тоже английской породы. Город скачек, Шантильи на берегу Тахо. Ибо Тахо, тот же Тахо, что обвивается кольцом вокруг шумного Толедо, здесь своим медленным течением напоминает вялую и бездумную поэзию XVIII века, — ну можно ли упрекать людей в непостоянстве, если сама природа сплошь и рядом поражает нас контрастами! От густого кустарника исходит пряный аромат. А на одной из аллей я видел ветку пальмы, трепещущую, словно рука — на аллее Озорников, где фонтаны с сюрпризом некогда обрызгивали кринолины дам: признаюсь вам, от мысли о подобных забавах у меня холодок пробегает по спине. Все это непохоже ни на Шантильи, ни на Версаль, но отдает тем слащавым величием, какое чувствуется вблизи королевской особы: напыщенное, неестественное и унылое искусство, как будто созданное лишь для того, чтобы его отведали один раз — и выбросили на свалку.
Да, а как же фонтаны Желания? Если не ошибаюсь, перед замком Каса дель Лабрадор, посреди заросшего травой, словно сад, дворика, я видел один из этих фонтанов, с аллегорической фигурой Вожделения в облике старухи. Черт возьми! Вожделение — в облике старухи! О нет, Вожделение следовало бы представить в облике той красавицы, что недавно, жадно раскрыв уста, стонала от страсти у меня на груди.
Это зрелище вызвало у меня омерзение, и я не пошел смотреть другие два фонтана. Впрочем, и так было ясно, что они мне ни к чему. Когда-то они уже сделали со мной все, что должны были сделать.