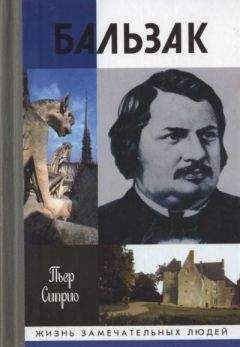Принять у себя Давида - не значило ли отречься от власти? Если Люсьен и не охватывал этой стороны вопроса, все же аристократическое чутье подсказывало ему множество иных трудностей, и он страшился их. Благородство чувств отнюдь не всегда сочетается с благородством манер. Если Расин был с виду знатным вельможей, то Корнель сильно напоминал прасола. Декарт был похож на степенного голландского купца. Посетители замка Ля-Бред, встречая Монтескье с граблями на плече, в ночном колпаке, нередко принимали его за простого садовника. Навыки света, когда они не дар высокого рождения и не наука, впитанная с молоком матери либо унаследованная в крови, приобретаются воспитанием, которому помогает случайность: изящество облика, породистое лицо, красивый голос. Все эти великие мелочи отсутствовали у Давида, между тем как природа щедро одарила ими его друга. Дворянин по матери, Люсьен с головы до самого кончика ноги с высоким подъемом был чистокровным франком, тогда как у Давида Сешара была плоская стопа кельта и наружность отца-печатника; Люсьен уже видел, как насмехаются над Давидом, ему чудилась сдержанная улыбка на устах г-жи де Баржетон. Не то, чтобы он устыдился своего брата, но все же он дал себе слово впредь не поддаваться первому побуждению и обдумывать свои поступки.
Итак, когда миновал час поэзии и самоотверженных порывов - след чтения стихов, открывшего обоим друзьям литературное поприще, освещенное новым солнцем,- для Люсьена пробил час политики расчетов. Вступая в Умо, он уже сожалел, что написал это послание, он желал бы его вернуть; ибо в эту минуту озарения он постиг неумолимые законы света. После того, как он понял, насколько завоеванная фортуна благоприятствует его честолюбию, трудно было ему снять ногу с первой ступени лестницы, по которой предстояло взбежать на приступ высот. И образы жизни, простой и спокойной, украшенной живыми цветами чувства, вновь расцвели в его воспоминании: вдохновенный Давид, готовый, если то нужно, жизнь отдать ради него; мать такая величавая даже в горькой нужде, уверенная в его доброте столь же, сколько в уме; сестра, такая прелестная в своем самоотречении; чистое детство, незапятнанная совесть, надежды, с которых ветер еще не оборвал лепестков.
И он сказал себе, что лучше стезей успеха пробиться сквозь густые толпы аристократических и мещанских воинств, нежели выдвинуться по милости женщины. Гений его заблистает рано или поздно, как гений стольких его предшественников, покорявших общество; о, тогда женщины его полюбят! Пример Наполеона, столь роковой для XIX века, внушающий надежды стольким посредственностям, встал перед Люсьеном, и он пустил по ветру свои расчеты и даже корил себя за них. Таким был создан Люсьен: с равной легкостью переходил он от зла к добру и от добра к злу. Вместо любви, которую философ питает к своему приюту, Люсьен последний месяц испытывал нечто похожее на стыд при виде лавки с вывеской, где по зеленому грунту желтыми буквами было выведено: АПТЕКА ПОСТЭЛЯ, ПРЕЕМНИКА ШАРДОНА
Имя его отца, выставленное напоказ на самой проезжей улице, оскорбляло его взор. В тот вечер, когда он вышел из ворот своего дома через решетчатую калитку дурного вкуса, чтобы появиться на бульваре Болье среди самой изящной молодежи верхнего города рука об руку с г-жою де Баржетон, он удивительно остро ощутил несоответствие между своим жилищем и благосклонной к нему фортуной.
"Любить госпожу де Баржетон, может быть, вскоре стать ее возлюбленным и жить в такой крысиной норе!" - думал он, входя в небольшой дворик, где вдоль стен были разложены связки вываренных трав, где аптекарский ученик чистил лабораторные котлы, где г-н Постэль, в рабочем фартуке, с пробиркою в руках, изучал химический препарат, бросая косвенные взгляды на свою лавочку; и если он чересчур внимательно вглядывался в пробирку, стало быть, прислушивался к звонку. Запахи мяты, ромашки, различных лекарственных растений, подвергнутых мокрой перегонке, наполняли весь дворик и скромное жилище, куда надобно было взбираться по крутой лестнице, с бечевкою вместо перил, в просторечье называемой мельничной лестницей. Наверху, в мансарде из одной комнаты, жил Люсьен.
- Здравствуйте, сынок- сказал г-н Постэль, совершенный образец провинциального лавочника.- Как ваше здоровьице? А я произвожу опыты с патокой; но чтобы найти то, что я ищу, тут надобен ваш отец. Да, толковый был человек! Знай я его тайну лечения подагры, мы оба нынче катались бы в каретах!
Не проходило недели, чтобы аптекарь, настолько же глупый, как и добрый, не вонзал нож в сердце Люсьена, напоминая о роковой скрытности отца во всем, что касалось его изобретения.
- Да, это большое несчастье,- коротко отвечал Люсьен; ученик его отца начинал представляться ему чрезвычайным пошляком, хотя он прежде нередко его благословлял, ибо честный Постэль не раз оказывал помощь вдове и детям своего учителя.
- Ну, и что же далее! - спросил г-н Постэль, ставя пробирку на лабораторный столик.
- Письма мне не приносили?
- Те-те-те! Есть письмецо! И пахнет, что твой бальзам! Вот оно там, на прилавке, подле конторки.
Письмо г-жи де Баржетон среди аптекарских склянок! Люсьен бросился в лавку.
- Поспеши, Люсьен! Обед ожидает тебя уже целый час: он простынет,ласково прозвучал в приотворенном окне чей-то нежный голос, но Люсьен его не слышал.
- У вашего братца не все дома, мадемуазель,- сказал Постэль, задирая голову.
Сей холостяк, порядком напоминавший водочный бочонок, на котором по причуде живописца намалевана толстощекая, рябая от оспин и красная физиономия, увидев Еву, принял церемонную и любезную позу, изобличавшую, что он не прочь жениться на дочери своего предшественника, сумей он положить конец борьбе между любовью и расчетом, разыгравшейся в его сердце. Потому-то, расплываясь в улыбке, он часто повторял Люсьену неизменную фразу, которую сказал и теперь, когда молодой человек опять прошел мимо него:
- Ваша сестра на диво хороша! Да и вы не дурны собою! Ваш отец все делал мастерски.
Ева, высокая брюнетка с голубыми глазами, действительно была необычайно хороша собою. Мужественность характера сказывалась у нее во всяком жесте, что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности. Ее чистосердечие, простодушие, покорность трудовой жизни, ее скромность, которая не подавала ни малейшего повода к злословию, пленили Давида Сешара. И уже с первой встречи между ними возникла безмолвная и наивная любовь в немецком духе, без бурных сцен и пышных признаний. Они втайне мечтали друг о друге, точно любовники, разлученные ревнивым мужем, для которого их любовь была бы оскорбительна. Оба таились от Люсьена, точно их чувство было изменой ему. Давид боялся, что он не нравится Еве, а она, в свою очередь, стеснялась своей бедности. Простая работница была бы смелее, но девушка, получившая хорошее воспитание и обнищавшая, мирилась со своей печальной участью. Скромная с виду, но нрава гордого, Ева не желала гнаться за сыном человека, слывшего богачом.
В ту пору люди, осведомленные о всевозрастающей стоимости земли, оценивали имение Марсак в восемьдесят с лишком тысяч франков, не считая земель, которые при случае, вероятно, прикупал старик Сешар, набивший туго свою 'мошну, удачливый на урожай, оборотистый в делах. Давид, пожалуй, был единственным человеком, не подозревавшим о богатстве отца. Для него Марсак был усадьбой, купленной в 1810 году за пятнадцать, не то шестнадцать тысяч франков, п он показывался там раз в год во время сбора винограда, когда отец водил его по виноградникам, хвалясь урожаем, от которого типограф не видел проку и чрезвычайно мало им интересовался. Любовь ученого, свыкшегося с одиночеством, в котором воображение увеличивает препятствия и тем еще более усиливает чувство, нуждалась в поощрении, ибо для Давида Ева была женщиной, внушавшей почтение большее, нежели какая-либо знатная дама внушает простому писцу. Вблизи своего идола типограф робел, дичился, торопился уйти, как торопился прийти, и тщательно скрывал свою страсть, вместо того чтобы ее выказать.
Нередко, сочинив какую-нибудь причину, чтобы посоветоваться с Люсьеном, он вечером спускался с площади Мюрье в Умо через ворота Пале; но дойдя до калитки с зеленой железной решеткой, он спасался бегством, испугавшись, что пришел чересчур поздно,- Ева, конечно, легла спать и может счесть его назойливым. Ева поняла его чувство, хотя эта великая любовь проявлялась лишь в мелочах; она была польщена, но не возгордилась, оказавшись предметом глубокого почитания, которое чувствовалось в каждом взгляде, в каждом слове, во всем обращении с ней Давида; но более всего ее пленяла в типографе его фанатичная преданность Люсьену: он избрал лучший путь к сердцу Евы. Чтобы понять, чем эти немые утехи любви отличены от мятежных страстей, должно уподобить их полевым цветам и сравнить их с блистательными цветами оранжерей. То были взгляды нежные и невинные, как голубые лотосы на глади вод, признания, едва уловимые, как запах шиповника, грусть, ласкающая, как бархат мхов: цветы двух прекрасных душ, возросших на тучной, плодоносной, надежной почве. Ева прозревала, какая сила скрыта под этой слабостью. Она очень хорошо понимала все то сокровенное, что Давид не осмеливался ей высказать, и самый легкий повод мог повлечь за собою самый тесный союз их душ.