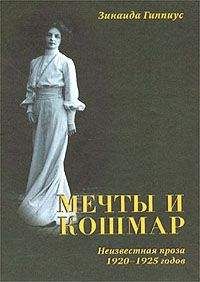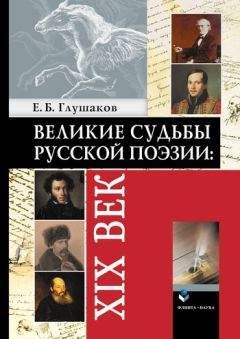Дядя Миша в городе? Еще не уехал? Как адрес?
Вот… — Она сказала мне номер дома; на Моховой, маленькая гостиница. И прибавила торопливо, тихо:
Я обещала в одиннадцать. Чтобы вместе уехать… с двенадцатичасовым. Я обещала, он знает, как я… И если сама поеду, — я боюсь, боюсь к нему! Я знаю, что не могу оставить ребенка. Он не поверит. А я не могу.
Ну еще бы она могла!
Мне он поверит, я сам знаю, что вы не можете, я уж знаю. Я сейчас, в одну минуту. Хотите, вместе выйдем, я вас сначала домой…
Нет, нет! — вскрикнула она. — Я подожду здесь, вы мне скажете, что он… Я и за него боюсь. Пусть он уедет, пусть он поверит, пусть он простит… Боже мой! Да что я делаю? — и она вдруг поднялась. — Как я смею вас просить? Что со мной?
Но я нахмурился.
— Не надо, оставайтесь, не надо, все хорошо. Я понимаю, я сделаю. Я сейчас вернусь, вы подождите спокойно. Спокойствие — тоже сила.
Хотя близко — я сообразил, что если встретится извощик, будет скорее. Но денег у меня не было. Побежал к себе, вытряс копилку, мелочь. Вернулся.
Ждите же меня. Я через двенадцать-пятнадцать минут.
Сережа!
Я обернулся в дверях.
— Сережа. Одно слово. Вы не думайте о нас дурно. Миша честный. Он не хотел — так… Он думал развод… Не знал, что я не могу оставить… Я сама не знала. Простите меня, Сережа…
Я только кивнул головой. Скорее, скорее! И зачем она мне это говорит? Точно я сам все не понимаю!
5
Когда я вернулся, Наталья Павловна сидела так же, на том же кресле, будто и не пошевелилась ни разу. Только глаза, из-под синего шарфа, блеснули мне навстречу.
Я наклонился к ней, к низкому креслу.
— Он велел вам дать… вот, кольцо. Он понял. Я так сказал, что он поверил. Я знал, что поверит. И будет любить всегда.
Наталья Павловна встала. Я жадно смотрел ей в лицо. Оно было ужасно светлое, а в глазах до краев стояли слезы, и не проливались.
Она не обняла меня, даже за руку не взяла. Она мне только низко-низко, в пояс, поклонилась, как бабы простые кланяются. Ничего не сказала, но зачем? Мы с ней оба и так все поняли, и никогда не забудем.
В эту ночь я видел сны — о Наде. О далекой-предалекой Наде, которая как голубая птица летала в небо на гигантских шагах. Утром сон помнится, и Надя была, как живая.
Надю я потерял, потому что был маленький и сам молился, чтобы потерять. А Наталью Павловну я потерял раньше, чем нашел. Впрочем, я не знаю хорошенько, потерял ли я их? У меня в душе тайна, ее ни потерять, ни изменить ей нельзя. Ведь не изменил же рыцарь: Lumen coeli! Sancta Rosa…
Тут не стихи. Я реалист. И я утверждаю, что все это — самая Реальная реальность.
На просторном московском дворе, на площадке, где земля подсохла, у самого палисадника, дети катали яйца. Детей было много, — в сером деревянном доме жило не одно семейство, — и все дети мелюзга: самому старшему, Косте, и тому вряд ли больше семи. Принаряжены: мальчики — в шелковых разноцветных рубашечках с поясками, девочки в накрахмаленных платьицах, которые оне уже успели смять, у Ани белесые, жиденькие волосенки притянуты на самой макушке голубым бантом.
Детям ужасно весело: они кричат, верещат, прыгают вокруг катка и горки розовых и красных яиц. Да все такое веселое: и двор, и земля весенняя, просыхающая, с первой травкой у забора, и желтый, как яйцо, высокий каток, — золотой в желтом ярком солнце. Даже воздух сам, и тот веселый: он точно дрожит, и струится, и то гулко, то глухо весь гудит московским праздничным звоном.
Повернув кольцо, вошел в калитку с улицы студент. Худощавый, сероглазый, еще безусый, в широкополой шляпе. И он жил в этом доме, и все ребятишки, постоянно игравшие вместе на дворе и в палисаднике, были его закадычные друзья. Случалось, сам играл и бегал с ними, и уж они знали, что он всегда придумает особенно хорошее, веселое или страшное.
Студент, через двор, прямо и направился к площадке, где желтел веселый каток. Увлеченные игрой, дети его еще не видели, но он сразу, через несколько шагов, заметил непривычную странность: толпились у катка, играли — не все. Одна девочка, кругленькая, маленькая, лет шести, сидела поодаль, на сыроватой еще скамейке у самого палисадника, откуда свешивались на нее прутья акации с едва зеленеющими почками. Скамейка высокая, и толстенькие ножки в новеньких, аккуратных ботиночках как-то жалобно торчали вперед.
Девочка смотрела круглыми, не мигающими глазами на игру. Смотрела жадно и робко; на одной щеке ее, крепкой, розовой, было пятнышко от просохших слез.
Здравствуй! Здравствуй! — запрыгали дети, увидав, наконец, студента. — Христос воскрес!.. А ты погляди, что я на свой кон взял!.. А у меня… А я…
Да вижу, здравствуйте, воистину! Уж христосовались утром. Вы постойте, вы мне скажите, а чего она с вами нынче не играет?
И он мотнул головой в сторону девочки, сидевшей вдали, на скамейке.
Нынче нам с ней нельзя, — сказал Костя.
Мы яйца катаем, яйца красные, — объяснила Надя убежденно.
Яйца — Христос воскрес, — подтвердил Петя.
— Для ней не Христос воскрес, — пропищала Аня. Студент поглядел на детвору и скорчил удивленную и смешную рожу.
Вот так-так! Это откуда же у вас эта новость? А я и не знал. Значит, для всех вас, без исключения, Христос воскрес, а для нее и не думал?
Без исключения, — повторила Аня, которой понравилось это слово.
Ну погодите, ребята, я вам одну штуку скажу.
А что? А что?
Да вы забоитесь.
Не забоимся! Скажи! Я не забоюсь!
Ладно. Только страшное. И уж наверно. Вот слушайте. Если для Хеси не воскрес Христос, так знайте, что и для вас, Для всех вас без исключения, тоже нет никакого Христос воскрес. И каток этот не ваш, и яйца не ваши, и вам нельзя играть. Даже опасно.
Он так это сказал, и такое при этом сделал лицо, что дети замолкли, вправду испугались, сами еще не зная чего.
— Вот и выбирайте, — продолжал студент. — Либо, если Пасха, так она для всех, и для Хеси тоже; а нет у нее — и у вас Ничего- Этого уж не переменишь.
Дети переглянулись.
— У нее Пасха есть… — сказала нерешительно девочка постарше.
Но Костя не сдавался.
— У ней без яйцев… Ей яйцев не даются… Студент пожал плечами.
— Тебе, Костя, я удивляюсь. Малыши могут не понимать, а ты большой, ты Священную историю учишь. Тебе задавали про Христа? Как к нему дети отовсюду шли, много-много детей, и Он не велел отгонять? А ты думаешь дети — кто эти были? Ани, Кости, да Нади? Как бы не так! Все были Хеси! Честное слово. А вы по какому же праву вашу Хесю отгоняете, выдумали, будто для нее Христос не воскрес? Ладно попали!
Девочка на скамейке, не шевелясь, прислушивалась, глядела на студента круглыми темными глазами; то на студента и на детей, то на каток и на кучки розовых яиц.
— Да мы что ж? — сказал Костя, задумчиво теребя шнурок пояса. — Мы же всегда вместе играем. Мы только нынче…
Студент передразнил:
— Нынче, нынче! Про то и речь! Ну, словом, решайте. Кто еще думает, что нынче с Хесей нельзя играть в яйца? Пусть прямо скажет и, чур, не врать, не хитрить, все равно узнается.
Никто ничего не сказал.
Чего же вы? забоялись?
Я не забоялась вовсе, — решительно выступила Надя. — Я ничего не боюсь. Это Аня тогда первая, и Костя. А я говорила же… И пусть Хеся с нами играет…
Костя вспыхнул:
Говорила! Ты что сама говорила? А я ничего. Я только одно: у ней яйцев никаких нету…
Ну, этому горю помочь можно, — сказал студент. — Вы, главное, позовите ее скорее, коли так. Хеся!
Хеся! — крикнули вместе Надя и Костя, а за ними Аня и другие.
Хеся! Хеся!
Девочка минутку помедлила, как будто еще не веря, потом спешно перевалилась на животик, болтнула сапожками и, цепляясь руками за скамейку, слезла. Не побежала: пошла робко, тихонько, с перевальцем. Была очень маленькая.
— Хеся, — сказал студент, присаживаясь на корточки и вынимая из кармана три яйца: лиловое, желтое и голубое. — Вот тебе, Хеся, это будут твои. А там уже тебе покажут, как с ними играть. Надо, чтобы были крепкие. Эти — крепкие.
Яйца были ужасно красивые, — особенно лиловое, — гладкое, блестящее. Хеся хотела взять, но пухлые пальчики такие маленькие, и она деловито подставила подол платьица, а сама широко и блаженно улыбалась.
Вот красивые! — сказала Надя, впрочем, без зависти (у нее зато было целых шесть). — Ну, давай, я тебе покажу, как наставлять. Давайте скорее; Костя, ставь свое!
Нет, мое, мое сначала! Мое — вон оно лежит! — взволновался Петя. — Мой же черед был. Стойте! Я два взял!
Аня с голубым бантом пищала:
— А я в Хесино хочу, в желтенькое! Я сама хочу в желтенькое!
Хеся, со своим сокровищем в подоле, уже примостилась у катка и лепетала что-то Ане, с деловитым видом. На щеке еще видно было пятнышко от просохших слез.