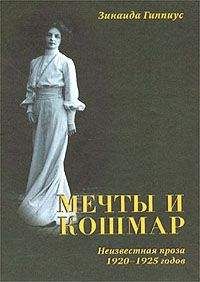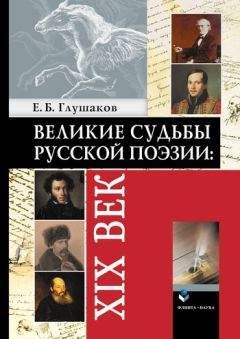Игра началась, веселье разгоралось. Но Костя, с розовым яйцом в руке, стоял около студента, медлил.
— Ты что же? — спросил студент. ~~ Да я ничего. Я буду.
И прибавил:
— Я, ведь, хорошенько не знал… насчет Хеси. Мало ли! И Другие про то же…
— Костя, милый, ты совсем милый, и ты видишь, как хорошо теперь, и я не обманывал, я правду говорил: для Хеси не-пРеменно Христос воскрес, а то и для тебя, и для вас, не вос-кРес Они поняли, и ты понял, только ты больше понял, ты, ведь, сам большой. Непременно для всех воскрес, и уж для никого.
— Для никого — не может он воскресать.
— Ну да, ну да! — обрадовался студент и положил Косте на плечо руку. — Именно не может, а потому для всех. Ты никого не слушай, если тебе будут говорить: вот у этих одна дорога, у этих другая. У тебя, и у Хеси такой, и у меня, — у всех нас один общий путь, царский путь к Богу… Впрочем, — прибавил он, как бы опомнившись, — это ты после поймешь, потом…
Он снял руку с Костиного плеча и умолк, взволнованно и задумчиво глядя на детей.
Костя уже смеялся с другими, Хеся что-то кричала, хлопала в ладоши. Веселое солнце желтило желтый каток. Солнечный воздух весь струился, дрожал и гудел пасхальными звонами.
Незаметно покинув площадку, студент медленными шагами двигался к дому, и с молодого лица не сходит улыбка.
Годы текли, протекали.
Всю жизнь свою студент, — давно не студент, — говорил людям, что они ошибаются, что две раздельные дороги — неразделимы, что это один и тот же, царский, путь, и нужно идти им вместе. Даже до последнего своего предсмертного мгновенья не устал он говорить об этом. Но никогда, может быть, не понимали его взрослые так, как поняли дети в тот далекий солнечный день Светлого Воскресенья.
Позвонить, что ли, к соседу? Отчего ж; можно и к соседу. Позвоню. Сосед наш… Я уж не помню, сколько лет мы его знаем. Наверно, знали и тогда, когда он не был соседом.
Что мы близки с ним (не в смысле соседних домов) — этого нельзя сказать. Мы близки, как все петербургские интеллигенты близки между собою. Если интеллигентское собрание, да в частной квартире, — (хотя бы и у нас) — почти наверное сосед тут же. И тем наверное, чем собрание «левее», а, главное, «таинственнее». Дешевая, большею частью, таинственность, но это все равно. Сосед любит таинственность и любит ее вид. Он и говорит, — довольно мало, — особенным, тихим голосом, с особенными интонациями таинственности: чем народу меньше, тем он говорит больше, а когда приходит один или вдвоем с кем-нибудь, — речи его обильны и так шепотны, что все время ждешь какого-то потрясающего секрета, но потом забываешь, что его не было, так как забываешь и все речи целиком.
Публичным выступлениям сосед не чужд, странно даже говорить, ведь он — присяжный поверенный! Но это не важно, об этом никто не думает: сосед наш, главным образом, — эсдек. Главным образом.
Смотрю на него, когда устаю от таинственного шепота без секрета, — и прикидываю: на кого он похож? На протоирея он ужасно похож: рясу коричневую, крест золотой — и просто художественный образ! Исследую это сходство строго, боясь, как бы не помешала объективности ассоциация идей, знание, — что отец-то соседа — был настоящий протоирей, и даже не без знаменитости: все мы, в детстве, в гимназиях, по его «одобренным» учебникам Закон Божий зубрили. Но, ей-Богу, если б и не знать это про соседа — протоирей самостоятельно навязался бы. Одна «вкусность» его к жизни какая красочная. Ведь по манере отставлять руку, садиться за чайный стол, по тысяче мелочей видишь. Как вкусно, как аппетитно живет сосед. Не обманываю себя: по адвокатским ли, по таинственно-интеллигентским ли делам куда-нибудь он едет (например, по делам загадочного кружка «О.—О.», насчет же путешествий по эсдечным делам — я сомневаюсь) — он должен ехать во втором классе, но со своими собственными простынями, чтобы уютно устроиться на ночь, и со своей провизией; он должен! В самом крайнем случае, если не провизия, он на каждой станции должен вылезать, закусывать, — ну и пивца бутылочку; а чего-нибудь, каких-нибудь пряничков или хоть леденцов — и в вагон из буфета захватить, — сластена!
Я не обманываю себя: если б это исключительно зависело от моего соседа — мы до сих пор не имели бы огнестрельного оружия, — не слышали бы, как пахнет порох. Но, во-первых, не было бы ли это к лучшему (война менее проклятая), а, во-вторых, — мне нравится сосед и так: оно художественнее.
* * *
Мы видели соседа в эту зиму довольно часто, а последний раз совсем недавно, совсем перед началом странных дней, даже чуть ли не во время неуследимого начала их странности.
А сосед был как сосед. Вкусно мурлыкал те же интеллигентско-эсдечные пессимистичности (это полагалось во время войны) и даже мало намекал на самое отдаленное будущее. Да, да, вспоминаю: это было при самом начале, но при начале. Он только плечами пожал и, кажется, не совсем даже понял, о чем мы спрашиваем. О чем, в самом деле? Все было, как вчера, как месяц, как год тому назад.
В прошлом году не было таких белых дней. От пронзительной белизны снеговой, — а снегу навалило невиданные горы, — все было пронзительно бело везде: свет белый в комнатах, воздух белый, даже небо какое-то, хоть и голубое, но с молоком. И каждый день снег еще падал; от этого еще увеличивалась прелесть и надежность чистоты; снег хрустел, но не казался хрупким.
Началось так, как начинается… любовь. Как будто ничего… и ясно видишь, что ничего, и говоришь себе, что ничего, — а в душе носишь что-то громадное, смутное, терпкое. Каждое утро просыпаешься с ним, хотя нарочно не глядишь, не хочешь глядеть; а подсознательно знаешь, что оно, пока на него не глядел, — выросло в сердце, и вот — вот уж не надеждой, а уверенным счастьем тебя захватит, которое придет, — пришло!
Это была, однако, не любовь, а революция.
К соседу мне вздумалось позвонить в один из первых «нарастающих» дней. Мы видим непрерывную цепь людей — приходящих, уходящих; все — как мы, ничего не знают, верят и не смеют верить. Сквозь всякие слухи — верно одно: началось, но само началось, а потому всякий конец возможен, оба вероятны.
К кому и по телефону ни звоню — то же. Ах, еще сосед!..
Никогда не было у него этого полногласия. Загудел в телефоне уж не протоиреем, а целым протодиаконом.
— Все идет великолепно, великолепно… Будьте спокойны, движение в прекрасных руках…
Вот так чудо. В руках, и даже прекрасных! А нам-то казалось… Уж не поверить ли соседу?
«Мы пьем в любви отраву сладкую…»
* * *
Несколько дней, переменивших все.
Для России, как для влюбленной девушки, после брака, влюбленность стала преображаться в страсть. И в первую же, медовую, неделю этого брака появились признаки, что он может кончиться трагично, что еще рано «жить-поживать и добра наживать…».
Впрочем, я о соседе. Он сидит у нас, один (на одну минутку, где же тут, как все!).
Громогласия ни следа. Какой-то обдерганный, чуть-чуть сконфуженный… нет, вовсе он не сконфужен, он не оправдывается, Боже сохрани! он объясняет. По-старому шепчет и полон таинственности (казалось бы! Уж теперь-то что?).
Объясняет, почему он написал, не мог не написать, знаменитый Приказ № 1. Рассказывает, как, где, при какой обстановке это случилось. В Таврическом дворце, конечно, на перманентном митинге Совета Солдатских и Рабочих депутатов. Он, сосед, там ведь первый…. (первый ли?). Мы должны понять: тысячная волнующаяся толпа серых шинелей… Народ… Стихия… Все глаза устремлены на него… Все руки протянуты к нему… Мало того: он уже сам среди этих серых волн… Каждое слово приказа подхватывается громовыми кликами, каждое следующее подсказывается ликующим освобожденным народом… Стихийный вал встает все выше… Я не мог не быть с ним, не быть в нем, не хотеть того, чего хотели они…
Не ручаюсь за дословность соседского шепота, который становился все вкуснее и мало-помалу перешел в тихое, довольное рокотанье, в самоудовлетворенное мурлыканье. В такое великое время, в таких обстоятельствах, оставаясь на высоте положенья, он должен был написать такой приказ.
— Вы, конечно, понимаете.
Мы, конечно, понимали, что в эту минуту ничего и никого не понимаем, кроме соседа. Этот был ослепительно понятен.
Мы пьем в любви отраву сладкую,
Но все отраву пьем мы в ней…
* * *
Еще медовая неделя не прошла, но белые дни прошли. Улица шоколадная, небо кофейное. А чистота — да уж была ли?
В такой шоколадно-кофейный день приехал к нам (в первый раз «после») молодой министр, он же депутат Солдатских и всяких Советов, — герой дня.
Старый наш приятель — он кажется новым, да и не только нам, а, пожалуй, и себе самому.