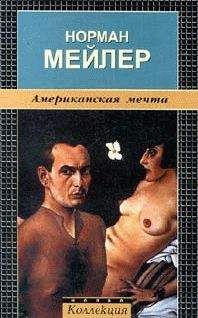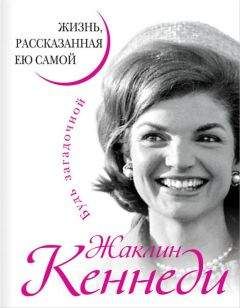– Доктор прибудет через пять минут, – сказал он. – Вы подождете?
– Передайте ему, пусть позвонит нам в участок, – сказал Лежницкий.
На столе в углу, в конце этого большого помещения, я увидел миниатюрный телевизор, размером не больше настольного радиоприемника. Звук был приглушен, изображение то ярко вспыхивало, то гасло, то вспыхивало опять, и у меня возникла бредовая мысль, будто оно беседует с неоновыми лампами и они отвечают ему. Я был в полуобморочном состоянии. Когда мы прошли коридорами и покинули госпиталь, я наклонился и попытался проблеваться – но только почувствовал вкус желчи во рту, да подарил фотографу еще один снимок.
По дороге все опять молчали. Какой бы участи Дебора ни заслужила, этот морг был для нее неподходящим местом. Я стал размышлять о собственной смерти и о том, как моя душа (когда-нибудь в грядущем) будет пытаться подняться и вырваться из мертвого тела. В этом морге (ибо видение моей смерти явилось ко мне там) нежные составляющие моей души задохнулись под парализующим воздействием дезодорантов, а надежда угасла в диалоге между неоновыми лампами и телевизором. Я впервые ощутил собственную вину. Было преступлением отдавать Дебору в морг.
У входа в участок толпилось еще больше репортеров и фотографов, и снова они закричали и заговорили все разом.
– Это он ее пришил? – заорал один.
– Вы его сцапали? – добивался другой. – Что же это, Робертс, что же это было?
Они пошли следом за нами, их остановили лишь на пропускном пункте, где какой-то полисмен восседал у расчерченного на квадраты табло, которое всегда напоминало мне о трибунале (хотя до сих пор я видел такое только в фильмах), и вот мы очутились в чрезвычайно большом помещении, может, шестьдесят футов на сорок, стены которого до уровня глаз были выкрашены в функционально зеленый цвет, а выше – в столь же функционально коричневатый, краска выцвела, а местами облупилась, потолок же состоял из грязно-белых, восемнадцатидюймовых в поперечнике плит, каждая из которых была украшена цветком, который, по мнению его изготовителя, жившего в девятнадцатом столетии, должен был изображать собой геральдическую лилию. Кругом стояли столы, штук двадцать, и, кроме того, в помещении было два маленьких бокса. Робертс остановился в дверях между пропускным пунктом и этой комнатой и сделал короткое заявление для прессы:
– Мы вовсе не задерживаем мистера Роджека. Он просто помогает нам, согласившись прийти сюда и ответить на наши вопросы. – После чего захлопнул у них перед носом дверь.
Робертс подвел меня к столу, и мы сели. Он достал какое-то досье и заполнял его в течение пары минут. Затем поднял на меня глаза. Мы опять остались вдвоем, – Лежницкий и О'Брайен куда-то исчезли.
– Вы заметили, – сказал Робертс, – что я оказал вам сейчас услугу?
– Заметил.
– Ладно, но меня от этого просто воротит. Терпеть не могу таких вещей. И Лежницкий с О'Брайеном, кстати, тоже. Должен сказать вам: Лежницкий превращается в зверя, когда дело доходит до такого материала. Он убежден, что вы ее убили. Он думает, что вы сломали шейный позвонок шелковым чулком. И надеется, что вы сделали это за пару часов до того, как выкинули ее из окна.
– Почему?
– Потому что, друг мой, если она провалялась там парочку часов, вскрытие это покажет.
– Что ж, тогда победа за вами.
– О, у нас достаточно предпосылок для победы. Я еще кое-что почуял, я знаю, что вы путаетесь с этой немочкой, со служанкой. – Его твердые синие глаза буравили меня. Я выдерживал его взгляд, пока мои глаза не начали слезиться. И лишь тогда он посмотрел в сторону. – Вам еще повезло, что никто серьезно не пострадал, когда столкнулись пять машин. Если бы кого-нибудь убило, да мы смогли бы навесить на вас смерть вашей жены, газеты представили бы вас злодеем почище Синей Бороды. Скажем, если бы погиб ребенок.
И правда, над этой стороной дела я почему-то не задумывался. Ведь я вовсе не собирался устраивать на улице свалку из пяти машин.
– Так что, знаете ли, – продолжил он, – вы отнюдь не в самом безнадежном положении. Но вы именно в том положении, когда необходимо принять решение. Одно из двух. Если вы сознаетесь в содеянном – простите, если задел вас, – но сможете привести в качестве смягчающего обстоятельства факты или факт измены со стороны вашей жены, то хороший адвокат сумеет добиться для вас двадцатилетнего срока. Что, как известно, на практике означает двенадцать лет, а может быть сведено и к восьми. Мы поможем вам, мы объявим, будто признание сделано вами добровольно. Мне придется объяснить ваше молчание на протяжении нескольких первых часов, но я скажу, что вы были в состоянии шока. Я и словом не обмолвлюсь о той херне, которую вы мне несли. И выступлю на суде свидетелем защиты. С другой же стороны, если вы будете запираться до тех пор, пока мы не соберем все изобличающие вас улики, и только тогда признаетесь, вы получите пожизненное заключение. Что означает, что даже в самом лучшем случае вы выйдете на свободу не раньше чем через двадцать лет. Ну а если вы будете стоять на своем и бороться до конца, мы вас одолеем и дело кончится электрическим стулом. Вам обреют наголо голову и угостят вашу бессмертную душу хорошим зарядом электричества. Так что посидите-ка да подумайте. Подумайте об электрическом стуле. А я позабочусь о кофе.
– Сейчас глубокая ночь, – сказал я. – Не пора ли вам отправляться домой?
– Я пошел за кофе.
Мне было жаль, что он оставил меня в одиночестве. Как-то легче было, когда он сидел тут. А сейчас мне не оставалось ничего другого, кроме как размышлять над тем, что он сказал. Я пытался прикинуть, сколько времени прошло между тем мигом, когда я понял, что Дебора мертва, и тем, когда ее тело упало наземь на Ист-ривер-драйв. Никак не менее получаса. А может быть, и час, и даже полтора. Когда-то я разбирался в анатомии, но сейчас никак не мог вспомнить, как долго клетки мертвеца остаются нормальными и когда они начинают разлагаться. И, должно быть, пока я сидел здесь, они уже производили вскрытие. Свинцовая тяжесть лежала у меня в желудке, та же бездонная тоска, какую я обычно испытывал, не видя Дебору неделю-другую и вдруг, по внезапному порыву, начиная ей названивать. Тяжко было сидеть и дожидаться Робертса еще и потому, что то безжалостное отсутствие милосердия, в зависимость от которого я попал с Деборой (как от спиртного, способного унять страх у меня в желудке), теперь было обещано мне следователем. Я знал, что они, скорее всего, наблюдают за мной и что мне следует оставаться на месте. Знал, что, едва я встану, мое волнение выдаст себя в каждом жесте, в каждом шаге, и все же не был уверен в том, что у меня хватит воли оставаться неподвижным: несколько часов подряд я палил из всех орудий, и склад моих снарядов был уже почти пуст.
Я заставил себя переключиться и стал осматривать помещение. Детективы вели допросы за четырьмя или пятью столами. Какая-то старуха в потрепанном пальто деловито рыдала за соседним столом, а откровенно скучающий детектив барабанил карандашом по столешнице, ожидая, когда она образумится. Чуть подальше здоровенный негр с расквашенным лицом отрицательно тряс головой в ответ на каждый вопрос, а из бокса доносился, как мне показалось, голос Руты.
И тут в другом конце комнаты я увидел златокудрую женскую головку. Это была Шерри. Она была здесь с дядюшкой и с Тони, ее спутники о чем-то горячо спорили с Лежницким и еще двумя детективами, которых я раньше не видел. Я находился тут уже добрых четверть часа, но не видел ничего, кроме лица Робертса. Только сейчас я услышал, какой тут стоит шум: протесты и обвинения, и настойчивые, как выстрелы, голоса полицейских сливались в единый хор, и я мог бы, пожалуй, ускользнуть сейчас в некое преддверие сна, в котором мы все плыли бы по морю грязи, окликая друг друга под грохот крушения о рифы под темной луной. Голоса словно состязались друг с другом, дядюшка в другом конце комнаты заговорил запинающимся и всхлипывающим голосом, старуха за соседним столом зарыдала еще громче, голос Руты тут же подцепил что-то пронзительное в рыданиях старухи, а негр с расквашенным лицом почти затараторил, качая головой в джазовом ритме, который он извлек из всеобщего гама. Мне казалось, что я заболеваю, у меня возникло ощущение, будто меня куда-то тащат в железной хватке моей памяти, будто я изменяю сейчас всем счастливым мгновениям, которые были у меня с Деборой, и прощаю ей каждый сгусток моего гнева в те часы, когда она умела посмеяться надо мной. Мне казалось, что я прощаюсь даже с той ночью на итальянском холме и с моими четырьмя немцами, да, я ощущал себя существом, которое страх загнал в некое пограничье меж землей и водой (страх, вобравший в себя опыт тысячи поколений), – оно цепляется когтями за что-то твердое, выкарабкивается из моря на сушу, и инстинкт ведет его на гребень предстоящей мутации, и отныне оно будет чем-то иным, может быть, лучшим, а может, и худшим, но никогда уже более тем, кем оно было по ту сторону этого мгновения. Мне казалось, что я угодил в провал во времени и становлюсь совсем иным человеком. Наверное, в эти минуты я был очень болен.