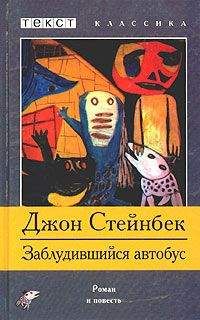– Он тяжелый, – сказала она.
– Я тоже, кажется, не карлик, – возразил Луи. Он взял ее чемодан и быстро пошел на посадочную платформу. Он влез в автобус и поставил чемодан перед сиденьем, которое было прямо за его креслом. Можно смотреть на нее в зеркальце и поговорить по дороге. Он вышел из автобуса и увидел, что оголец с другим уборщиком грузят на крышу ящик с пирогами.
– Поаккуратнее с этой штукой, – громко сказал Луи. – Вы, паразиты, уронили такой на прошлой неделе, а капают на меня.
– Ничего я не ронял, – сказал мальчишка.
– Ну да, не ронял, – сказал Луи. – Не нарывайся, малый. – Он ушел через стеклянные двери в зал ожидания.
– Чего его разбирает? – спросил другой уборщик.
– Да я его зашухарил, – сказал мальчишка. – Джордж нашел бумажник, а я видел, ну и побоялся притырить. С начинкой бумажник. Оба взъелись на меня – что я видел. Луи с Джорджем эту сотню поделили бы, а из-за меня она накрылась. Видят, что я видел, ну и, ясно, побоялись притырить.
– Я бы от сотни не отказался, – сказал уборщик.
– А кто бы отказался? – сказал мальчишка.
– Взял бы я сотню да как загулял бы – на сотню знаешь как можно погулять?
И пошел ритуальный разговор.
В зале возникла легкая суета. Пассажиры автобуса, отправлявшегося на юг, уже собрались. У Эдгара в кассе было много работы – но не так много, чтобы выпустить из виду блондинку. «Щетка», – шептал он. Это было новое слово. Теперь он будет им пользоваться. Он осмотрел ноготь мизинца на левой руке. Не скоро вырастет такой хороший, как у Луи. Но зачем себя обманывать? Все равно, таким ходоком, как Луи, он не будет. Бабы ему всегда доставались второго разбора.
Был последний набег пассажиров на кондитерский лоток, на автоматы с арахисом и жвачкой. Китаец купил «Тайм» и «Ньюсуик», аккуратно скатал их вместе и опустил в карман черного габардинового пальто. Старуха нервно перебирала журналы у газетчиков, не собираясь ничего покупать. Два индуса в ослепительно белых чалмах, с лаково-черными кудрявыми бородами стояли рядышком перед окном кассы. Пытаясь объясниться, они бросали вокруг огненные взгляды.
Луи стоял у выхода на платформу и безотрывно смотрел на блондинку. От него не укрылось, что каждый мужчина в зале занят тем же. Все наблюдали за ней исподтишка, чтобы никто не заметил. Луи повернулся и посмотрел через стеклянные двери: мальчишка и другой уборщик укрепили ящик с пирогами на крыше автобуса и покрыли брезентом.
В зале ожидания вдруг потемнело. Должно быть, туча закрыла солнце. Потом снова посветлело, как будто плавно вывели реостат. Зазвенел большой колокольчик над стеклянными дверьми. Луи взглянул на ручные часы и вышел на платформу к большому автобусу. Пассажиры в зале ожидания поднялись и зашаркали к дверям.
Эдгар никак не мог понять, куда хотят ехать индусы. «У, башка тряпичная, – сказал он про себя. – И чего их носит – выучились бы сперва по-английски».
Луи забрался на высокое кресло, отгороженное трубой из нержавеющей стали, и проверял билеты у входивших пассажиров. Китаец в черном пальто сразу направился к заднему сиденью, снял пальто и положил «Тайм» с «Ньюсуиком» на колени. Старая дама, задыхаясь, преодолела ступеньку и села прямо позади Луи. Он сказал:
– Извините, это место занято.
– Что значит занято? – ощетинилась она. – Здесь места не нумерованные.
– Это место занято, – повторил Луи. – Вы же видите – чемодан стоит? – Он ненавидел старух. Он их боялся. От них пахло чем-то таким, что у него поджилки дрожали. Они бешеные, и у них нет гордости. Им скандал устроить – все равно что плюнуть. И всегда своего добиваются. Бабка Луи была тираном. И всегда своего добивалась, потому что была бешеная. Боковым зрением он видел блондинку, дожидавшуюся на подножке автобуса, когда пройдут индусы. Надо же так влипнуть. Он вдруг рассердился.
– Мадам, – сказал он, – в автобусе распоряжаюсь я. Тут сколько угодно хороших мест. Будьте любезны пересесть.
Старуха выставила на него подбородок и нахмурилась. Она поелозила задом, устраиваясь поудобнее.
– Вы этой девице место заняли – вот кому вы заняли, – сказала она. Я вот подам на вас жалобу начальству.
Луи взорвался.
– Сделайте одолжение. Выходите и подавайте на меня жалобу. Пассажиров у компании много, а хороших шоферов мало. – Он видел, что блондинка слушает, и ему это было приятно.
Старуха почувствовала, что он сердится.
– Я на вас пожалуюсь, – сказала она.
– Жалуйтесь на здоровье. Вы можете сойти, – громко ответил Луи, – но на этом месте сидеть не будете. Оно предоставлено пассажирке по совету врача.
Это была лазейка, и старуха ею воспользовалась.
– Почему вы сразу не сказали? – спросила она. – Что же я – понять не могу? Но я все равно пожалуюсь на вашу грубость.
– Сделайте одолжение, – устало сказал Луи. – Мне не привыкать.
Старуха пересела на следующее место. «Сейчас навострит уши и будет меня ловить, – подумал Луи. – А-а, пускай. У нас пассажиров больше, чем водителей». Блондинка была уже рядом, протягивала билет. Луи непроизвольно сказал:
– Вы только до Мятежного?
– Да, у меня там пересадка. – Она улыбнулась, услышав разочарование в его голосе.
– Вот ваше место, – сказал он. Он видел в зеркальце, как она села, закинула ногу на ногу, одернула юбку и поставила сумочку рядом с собой. Потом выпрямилась и поправила воротник жакета.
Она знала, что Луи наблюдает за каждым ее движением. С ней так бывало всегда. Она знала, что отличается от других женщин, но не совсем понимала – чем. С одной стороны, было приятно – что тебе всегда уступают лучшее место, не дают заплатить за обед, поддерживают под руку, когда переходишь улицу. Руки мужчин все время тянулись к ней. И в этом же было постоянное неудобство. Приходилось урезонивать, или улещивать, или оскорблять, или просто драться, чтобы отстали. Все мужчины домогались одного и того же, и деться от этого было некуда. Она воспринимала это как неизбежность и была права.
Когда она была совсем молоденькой, ее это мучило. Было гадко, давило ощущение вины. Но повзрослев, она притерпелась и выработала свои методы. Иногда она уступала, иногда принимала в подарок деньги или вещи. Подходы же почти все ей были известны. Она точно могла предугадать все, что сделает или скажет Луи в следующие полчаса. Иногда это помогало избежать осложнений. Мужчины постарше хотели ей помочь, устроить учиться или устроить на сцену. Из молодых некоторые хотели на ней жениться или опекать ее. И лишь немногие, очень немногие, честно и прямо желали с ней спать, о чем и заявляли.
С ними было проще всего, потому что она могла сказать да или нет и на этом поставить точку. Больше всего она ненавидела в своем даре – или своем недостатке – грызню, вечно разгоравшуюся вокруг нее. Мужчины яростно сцеплялись в ее присутствии. Грызлись, как терьеры; поэтому ей иногда хотелось нравиться женщинам – но она не нравилась. Она была не глупа. И знала, почему не нравится, но ничего не могла поделать. Мечтала же она – о красивом доме в красивом городке, о двух детях и о том, как она будет стоять на лестнице. Она будет красиво одета и будет встречать гостей к обеду. Будет муж – конечно; но он как-то ускользал из этой картины, потому что рекламы в женских журналах, из которых и вырастала мечта, никогда не включали мужчину. Только миловидная женщина в красивом платье спускается по лестнице, только гости в столовой, только свечи и обеденный стол темного дерева, и чистенькие дети целуют маму, отправляясь спать. Вот чего ей хотелось. И она понимала яснее ясного, что этого как раз у нее не будет.
В ней накопилось много грусти. Она думала о других женщинах. Может быть, они в постели не такие, как она? Наблюдая жизнь, она видела, что на большинство женщин мужчины так не реагируют, как на нее. Чувственность не взыгрывала в ней с обременительной силой или постоянством, а как у других женщин – она не знала. С ней они никогда этого не обсуждали. Они ее не любили. Однажды молодой врач, к которому она обратилась в надежде как нибудь умерить свои периодические страдания, начал к ней приставать, и когда она его окоротила, заметил: «Вокруг вас воздух этим заражен. Не знаю, как это у вас получается, но это факт. Есть такие женщины, – сказал он. – Слава богу, их немного, иначе бы мужчина спятил».
Она пробовала одеваться построже, но это мало помогало. На обычной работе она не удерживалась. Она научилась печатать, но когда ее нанимали, в конторе все летело кувырком. А теперь у нее была кормушка. Платили хорошо, сложностей особых не было. Она раздевалась на холостяцких банкетах. Антрепризой занималось обыкновенное агентство. Она не понимала, что за смысл в этих банкетах и что за удовольствие мужчинам, но мужчины приходили, а она получала пятьдесят долларов за то, что снимала одежду, и это было лучше, чем если бы одежду сдирали в кабинете. Она даже почитала о нимфомании – хоть и немного, но поняла, что ею не страдает. И чуть ли не жалела об этом. Иногда она думала просто поступить в публичный дом, скопить там денег и уехать на покой в деревню – или же выйти за пожилого, с которым можно сладить. Это было бы самое простое. Молодые люди, которые ей нравились, почему-то начинали злобствовать. Они всегда подозревали ее в обмане. Либо дулись, либо пробовали бить, либо в ярости прогоняли ее.